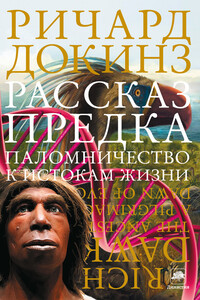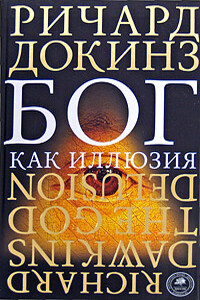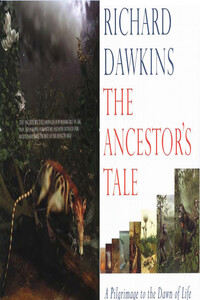Расширенный фенотип: длинная рука гена | страница 96
Репликатор зародышевого пути (который может быть активным или пассивным) — это репликатор, потенциально способный быть предком бесконечно длинной вереницы репликаторов-потомков. Ген, находящийся в гамете, является репликатором зародышевого пути, так же как и ген какой-либо клетки зародышевой линии — прямой митотической предшественницы гаметы в организме. Так же как и любой ген Amoeba proteus. Или как молекула РНК в пробирке у Оргела (Orgel, 1979). Тупиковый репликатор (который также может быть активным или пассивным) — это репликатор, который может быть копирован ограниченное число раз и дать начало короткой веренице потомков, но который, безусловно, не является потенциальным предшественником линии, способной существовать в течение неопределенно долгого времени. Большинство молекул ДНК в нашем теле — тупиковые репликаторы. Реплицируясь при митозе[47], они могут дать начало нескольким десяткам поколений своих копий, но точно не будут ничьими предками в долгосрочном понимании.
Молекулу ДНК в зародышевой линии индивидуума, которому случилось умереть молодым или не оставить потомства по другой причине, не следует называть тупиковым репликатором. Такая зародышевая линия оказалась конечной. Образно говоря, она потерпела неудачу в своем стремлении к бессмертию. Неудачи и удачи такого рода — это и есть то, что мы понимаем под естественным отбором. Но любой репликатор зародышевого пути потенциально бессмертен — независимо от того, насколько он преуспевает в этом на практике. Он «стремится» к бессмертию, хотя в реальности ему грозит гибель. Однако в телах полностью стерильных рабочих особей у общественных насекомых все молекулы ДНК представляют собой настоящие тупиковые репликаторы. Они даже не стремятся реплицироваться бесконечно. У рабочих отсутствует зародышевая линия не из-за невезения, а потому что они так устроены. В этом отношении они больше похожи на клетки человеческой печени, нежели на сперматогонии человека, живущего в безбрачии. Найдутся факты, классифицировать которые затруднительно: например, «стерильная» рабочая особь, которая может стать фертильной в случае гибели своей матери. Или лист Streptocarpus’а, не предназначенный для порождения новых растений и все же способный к нему, если посадить его как черенок. Но тут уже начинает попахивать теологией. Давайте не будем выяснять в точности, сколько ангелов могут танцевать на булавочной головке.
Как я уже сказал, разделение репликаторов на активные и пассивные никак не связано с классификацией «зародышевый путь/тупик». Все четыре сочетания возможны. Особенный интерес вызывает один из этой четверки — активный репликатор зародышевого пути, поскольку, как мне думается, он и есть «опти-мон», единица, для блага которой существуют адаптации. Причина, по которой активные репликаторы зародышевого пути так важны, состоит в том, что, возникнув где бы то ни было во вселенной, они, вероятно, станут основой для естественного отбора и, как следствие, эволюции. Если существуют активные репликаторы, то одни их разновидности, обладающие определенными фенотипическими эффектами, будут реплицироваться лучше, чем другие — с иными фенотипическими эффектами. Если при этом они являются репликаторами зародышевого пути, то происходящие изменения относительных частот их встречаемости будут иметь долговременный, эволюционно значимый характер. Мир автоматически стремится к тому, чтобы стать населенным репликаторами зародышевого пути, активные фенотипические эффекты которых обеспечивают им успешное размножение. Именно эти фенотипические эффекты воспринимаются нами как приспособления для выживания. И когда мы спрашиваем,