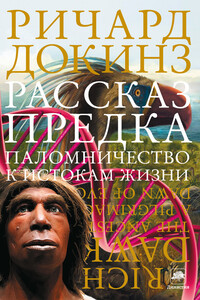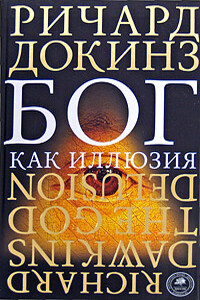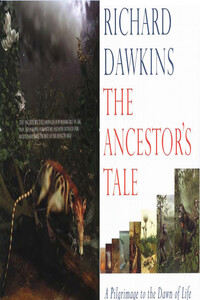Расширенный фенотип: длинная рука гена | страница 36
Немалая часть этой главы основывалась на предположении, что биологам может захотеться размышлять о дарвиновских «функциях» поведения. Но это не значит, что у любого поведения непременно есть дарвиновская функция. Возможно, существует широкий класс моделей поведения, нейтральных с точки зрения отбора или же вредных для тех, кто им следует, и бессмысленно рассматривать их как дарвиновские адаптации. Если это так, то доводы настоящей главы к ним неприменимы. Но вполне законно сказать: «Я интересуюсь адаптациями. Мне не обязательно думать, что все схемы поведения — адаптации, но я хочу изучать те схемы поведения, которые ими являются». Аналогично, предпочтение изучать позвоночных, а не беспозвоночных, не обязывает нас считать, будто все животные — позвоночные. Пусть область наших исследований — адаптивное поведение, в таком случае мы не можем говорить о дарвиновской эволюции интересующих нас явлений, не постулируя для них генетической основы. А употребление словосочетания «ген признака X», как более удобного, когда речь идет о «генетической основе признака X», уже более полувека является стандартной практикой в популяционной генетике.
То же, насколько обширен класс моделей поведения, которые мы можем считать адаптациями, — вопрос совершенно особый и рассматривается в следующей главе.
Глава 3. Пределы совершенства
Так или иначе, в этой книге много внимания уделено логике дарвиновского объяснения биологических функций. Как известно из горького опыта, биолог, выказывающий большой интерес к объяснению функций, легко подвергается обвинениям, и порой настолько страстным, что человек, привыкший более к научным, нежели к идеологическим дебатам, может испугаться (Lewontin, 1977)? — на него навешивают ярлык «адаптациониста», считающего, что все животные абсолютно совершенны (Lewontin, 1979 а, b; Gould & Lewontin, 1979). Адаптационизм определяют как «подход к изучению эволюции, принимающий без каких-либо доказательств, что все аспекты морфологии, физиологии и поведения живых организмов являются наиболее адаптивными, оптимальными способами решения проблем» (Lewontin, 1979b). В первоначальном варианте главы я выражал сомнение, что адаптационисты в полном смысле этого слова могут реально существовать, но недавно мне попалась следующая цитата — по иронии судьбы, из Левонтина собственной персоной: «В одном, я думаю, все эволюционисты согласны между собой — в том, что поистине невозможно выполнять свою работу лучше, чем это делает организм в свойственной ему среде» (Lewontin, 1967). С тех пор, кажется, Левонтин уже совершил свое путешествие в Дамаск, так что представлять его здесь в качестве делегата от адаптационистов было бы нечестно. Ведь в последние годы он вместе с Гульдом был одним из наиболее ясно высказывавшихся и убедительных критиков адаптационизма. За образец адаптациониста я возьму Э. Дж. Кейна, который остался (Cain, 1979) неизменно верен взглядам, изложенным в его острой и изящной статье «Совершенство животных».