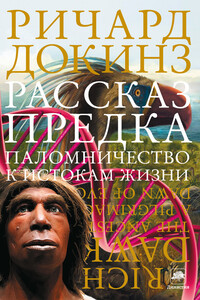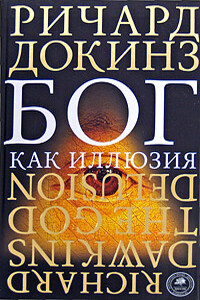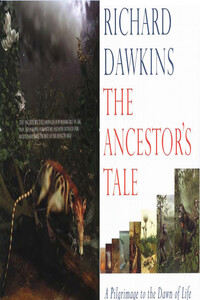Расширенный фенотип: длинная рука гена | страница 134
Ну, если бы это действительно было хорошим аргументом, то это был бы аргумент не только против представления о генах как о единицах отбора, но и против всей менделевской генетики. В самом деле, фанатик ламаркизма X. Г. Кэннон недвусмысленно использует именно его: «Живой организм не является ни чем-то изолированным, ни набором частей, каким его видел Дарвин, напоминающим, как я уже говорил, столько-то шариков в коробочке. В этом трагедия современной генетики. Приверженцы гипотезы неоменделизма рассматривают организм как столько-то признаков, контролируемых столькими-то генами. Сколько бы они ни рассуждали о полигенах[63], именно в этом — суть их фантастической гипотезы» (Cannon, 1959, р.131).
Большинство согласится, что это плохой аргумент против менделевской генетики, и он ничуть не более эффективен против того, чтобы рассматривать ген в качестве единицы отбора. Ошибка, которую совершают и Кэннон, и Гульд, состоит в том, что у них не получается отделить генетику от эмбриологии. Менделизм — это теория о корпускулярном наследовании, а не о корпускулярном развитии. Аргумент, приведенный Кэнноном и Гульдом, — это веский довод против корпускулярной эмбриологии и в пользу эмбриологии смешанного действия. Я сам привожу подобные аргументы в других местах этой книги (например, аналогия с пирогом в разделе главы 9, названном «Несостоятельность преформизма»). Гены на самом деле могут смешиваться, пока речь идет об их влиянии на развивающиеся фенотипы. Но, как я уже достаточно подчеркивал, они не смешиваются, когда копируются и рекомбинируют в рядах поколений. Именно это является важным для генетика, и именно это важно для того, кто изучает единицы отбора.
Гульд продолжает:
Итак, части тела — это не то же, что транслированные гены, а отбор не оказывает непосредственного действия даже на части тела. Он сохраняет или отбрасывает организмы целиком в зависимости от того, какие преимущества дают им сложные взаимодействия наборов частей тела. Образ отдельных генов, разрабатывающих стратегии своего выживания, имеет мало отношения к генетике развития, как мы ее себе представляем. Докинзу требуется другая метафора: гены проводят совещания, формируют альянсы, относятся почтительно к возможности заключить договор, оценивают возможные условия среды. Но когда вы смешаете так много генов и свяжете их в узел иерархических взаимодействий, опосредованных окружающими условиями, то в итоге вы получите объект, который мы называем организмом.