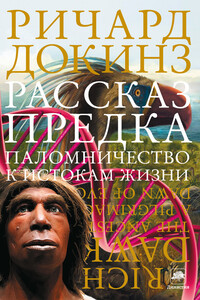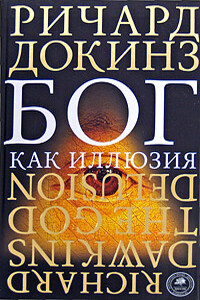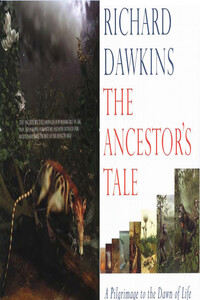Расширенный фенотип: длинная рука гена | страница 125
Для простоты я обсуждал теорию межвидового отбора, рассматривая в качестве репликатора вид. Читатель, однако, заметит, что это больше похоже на то, чтобы считать репликатором организм с бесполым размножением. Ранее в этой главе мы показали, что критерий телесных повреждений вынуждает нас применять понятие «репликатор» только к геному, скажем, палочника, но никак не к самому насекомому. Точно так же и в модели межвидового отбора репликатором является не вид, а генофонд. Возникает искушение сказать: «Раз так, то давайте пойдем до конца и будем всегда, даже в модели Элдриджа — Гульда, считать репликатором ген, а не какую-то более крупную единицу». На это можно ответить, что если генофонд — действительно коадаптированная единица, гомеостатически сопротивляющаяся изменениям, то у него есть такое же право считаться отдельным репликатором, что и у генома самки палочника. Тем не менее, генофонду такое право обеспечено только при репродуктивной изоляции, подобно тому как геному — только при бесполом размножении. Да и в любом случае право это весьма эфемерно.
В этой главе мы уже установили, что организм определенно не может быть репликатором, в отличие от его генома — при условии бесполого размножения. Сейчас мы увидели, что иногда бывает позволительно рассматривать в качестве репликатора генофонд репродуктивно изолированной группы, к примеру, вида. Приняв это как допущение, мы можем представить себе эволюцию, направляемую отбором, происходящим между такими репликаторами, но, как я только что заключил, подобный отбор вряд ли объясняет существование сложных адаптаций. А есть ли еще какие-нибудь приемлемые кандидаты на звание репликатора, помимо небольшого генетического фрагмента, обсуждавшегося в предыдущей главе?
Мне уже приходилось выступать в поддержку репликатора абсолютно негенетической природы, процветающего только в сре&, образуемой высокоразвитыми, обменивающимися информацией мозгами. Я дал ему название «мем»[61] (Dawkins, 1976а). К сожалению, я, так же как Ламсден с Уилсоном (Lumsden & Wilson, 1980), если я их правильно понял, и в отличие от Клока (Cloak, 1975), не провел достаточно четкой границы между собственно мемом как репликатором, с одной стороны, и его «фенотипическими эффектами» или «меметическими продуктами» — с другой. Мем следует рассматривать как единицу информации, хранящейся в мозге («i-культура», по Клоку). Он имеет определенное строение, воплощенное в том материальном носителе информации, который использует наш мозг, каким бы этот носитель ни был. Если мозг хранит информацию в виде расположения синапсов, то мем теоретически можно увидеть под микроскопом как четко организованную синаптическую структуру. Если же информация в мозге «рассредоточена» (Pribram, 1974), то мем уже не разместить на предметном стекле, но, тем не менее, мне все равно хотелось бы считать его частью материального содержимого мозга. Это нужно, чтобы отделить мем от его фенотипических эффектов — влияний, которые он оказывает на окружающий мир (клоковская «m-культура»).