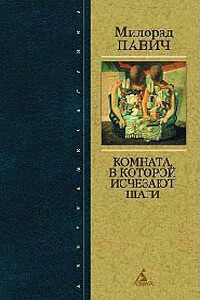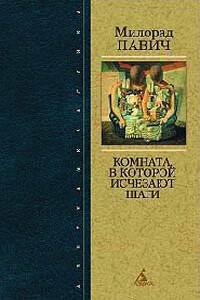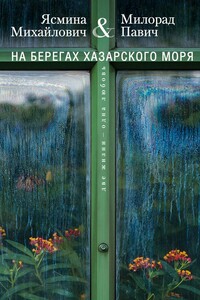Роман как держава | страница 53
В Вене состояние Орфелина, страдавшего болезнью легких, значительно ухудшилось, но он продолжал строить планы и мечтал выпустить новые книги — немецкие и латинские словари. Решение Курцбека издать немецко-сербский и сербско-немецкий словари (осуществившееся в 1790 и в 1791 году) связано с этими замыслами Орфелина. В 1783 году Орфелин опубликовал в Вене две ранее подготовленные книги: «Вечный календарь» и пособие по домоводству «Опытный винодел». «Вечный календарь» по праву считается своего рода энциклопедией, так как охватывает самые разные области (география, астрономия, метеорология, физика, история Церкви и отрывок из книги Юлинаца, посвященный сербским властителям). Здесь снова проявилась просветительская ориентация Орфелина, прежде всего в области физики. Последователи Досифея и приверженцы политики просвещенного абсолютизма Иосифа II, такие, например, как Эмануил Янкович и Атанасий Стойкович, позже возьмут на вооружение некоторые направления «Вечного календаря» и будут использовать их в своих учебниках физики, проникнутых духом просвещения. В «Вечном календаре» Орфелин напечатал и последнюю свою гравюру на меди — «Сотворение мира». В это же время в типографии Курцбека он подготовил к изданию и выпустил в свет еще одну книгу — русский катехизис Левшина.
Но здоровье Орфелин было уже окончательно подорвано. В том же году он возвратился из Вены в Нови-Сад, и епископ Иосиф Михайлович Шакабента отправил его на свой хутор Сайлово. Тяжелобольной поэт тщетно посылал в Ремету письма, умоляя братьев выслать ему забытый в монастыре прибор для письменных принадлежностей и настольный колокольчик, с помощью которого можно позвать на помощь соседей, когда у него идет горлом кровь. Последнее письмо Захарий Орфелин послал граверу Якобу Шмуцеру в Вену.
Орфелин умер 19 января 1785 года на хуторе Сайлово и был похоронен на Йовановском кладбище в Нови-Саде. Современник Орфелина, поэт и историк Йован Раич, находившийся тогда в монастыре Ковиль, откликнулся на эту смерть такими потрясающими душу словами: «Умер любезный брат мой Захария Орфелин на епископском хуторе в Нови-Саде в полной нищете», а Досифей Обрадович добавил: «Захария Орфелина имя не будет народом нашим забыто». Вспоминая впоследствии о смерти Орфелна и Соларича, поэт Лукиан Мушицкий говорил, что у гробов их «в слезах стояли их товарищи: бедность, горе и глад».
Необыкновенно интересное и объемное наследие Орфелина до сих пор еще полностью не опубликовано. Он был поэтом, знатоком истории и естествознания, автором экономических, лингвистических и теологических трудов. Сербская культура многим обязана ему как просветителю, полемисту, музыканту, переводчику, печатнику и корректору сербских типографий и в Венеции, и в Вене. Издатель, педагог, редактор первого сербского журнала, архитектор, лексикограф, художник-рисовальщик и гравер, член Венской академии художеств — Орфелин был одной из самых одаренных и всесторонне реализовавших себя личностей во всей истории сербской культуры. Самое замечательное его произведение, а одновременно это и лучшая сербская книгой всего XVIII столетия — монография о Петре Великом — долгое время оставалась анонимной для большинства читателей, пока в 1887 году Д. Руварац в своем «Яворе» не указал на ее автора. До сих пор нет собрания сочинений Орфелина, и маловероятно, что ему будет поставлен памятник, ведь, создавая всю жизнь портреты других, могущественных людей, он не оставил потомкам своего собственного изображения.