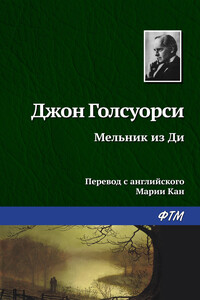Сойди, Моисей | страница 51
— Боишься, что найдет?
Он по-прежнему не мог понять, смотрит ли она на что-нибудь — крохотная, как кукла, игрушка.
— Потому что Господь говорит: «Что предано моей земле, то мое,10 пока не воскрешу. А кто тронет — берегись». Боюсь. Уйду я. Не буду с ним.
— Нет у нас никаких кладов, — сказал Эдмондс. — Ведь он с весны копается у речки, ищет. И машина ему ничего не найдет. Как только я Лукаса не отговаривал ее покупать. Все способы испробовал — разве что этого проклятого торговца не арестовал за вторжение на мою землю. Теперь жалею. Если бы я мог предвидеть… Да и все равно — что толку? Лукас встретился бы с ним где-нибудь на дороге и купил бы. Но с ней он денег найдет не больше, чем без нее — когда бродил по речке и Джордж копал там, где Лукасу померещился клад. Он сам это скоро поймет. Бросит свою затею. И все у вас наладится.
— Нет, — сказала она. — Лукас старик. Ему шестьдесят семь, хоть и не дашь столько. Когда такой старый клад стал искать — это все равно что к картам пристрастился, к вину или к женщинам. Где уж бросить — годов-то не осталось. И пропал человек, пропал… — Старуха умолкла. Она не пошевелилась в жестком кресле, не двинулись даже плоские кляксы узловатых рук на белом фартуке. Дьявол, дьявол, дьявол, подумал Эдмондс.
— Я бы сказал тебе, как его вылечить в два дня. Будь ты на двадцать лет моложе. А сейчас ты не справишься.
— Скажи. Справлюсь.
— Нет, — сказал он. — Стара ты.
— Скажи. Справлюсь.
— Дождись, когда он вернется завтра утром с этой штукой, возьми ее сама, иди на речку и ищи клад, и тоже самое — послезавтра утром, и послепослезавтра. Пусть узнает, что ты делаешь — что ходишь с этой машиной, пока он спит, все время, пока спит и не стережет ее, и сам не ищет. Пусть придет и увидит, что завтрака ему нет, проснется и увидит, что ужина нет, а ты на речке, ищешь клад с его машиной. Это его вылечит. Но ты стара. Тебе не выдержать. Возвращайся домой, а когда Лукас проснется, вы с ним… Нет, второй раз за день в такую даль тебе нельзя. Передай ему, что я велел меня дождаться. Я приду после ужина. Скажи, чтобы ждал.
— Разговорами его не исправишь. Я не сумела. И ты не сумеешь. Только уйти от него остается.
— Возможно, не сумею, — сказал Эдмондс. — Но попробовать, черт возьми, я могу. И он, черт возьми, будет слушать. Приду после ужина. Скажи, чтоб ждал.
Она встала. Эдмондс смотрел, как она бредет по дороге к своему дому, крохотная, почти кукла. Тут было не только участие и — если бы он признался себе откровенно — вовсе не участие к ней. Им владел гнев — вскипело вдруг все, что копилось годами — все возмущение, вся уязвленность, — копилось не только на его веку, но и при жизни отца, и во времена деда, Маккаслина Эдмондса. Лукас был не просто старейшим жителем на его земле — старше даже его покойного отца, — и текла в его жилах не просто четверть белой крови, причем крови не Эдмондсов, а самого старика Карозерса Маккаслина, и происходил от него Лукас не просто по мужской линии, а еще и в третьем поколении, тогда как Эдмондс происходил по женской линии и в шестом; с детства запомнил он, что Лукас называл его отца за глаза мистером Эдмондсом, а не мистером Заком, как остальные негры, а если обращался к нему, то с холодным расчетливым упорством вообще избегал называть белого по имени.