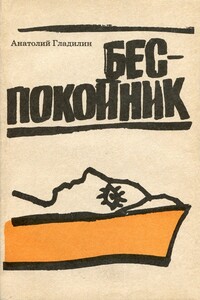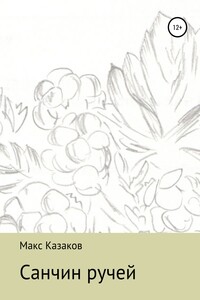Меня убил скотина Пелл | страница 31
Говоров приехал в бюро и сделал сразу два журнала из тех материалов, которые оставались у него в запасе. Теперь хотя бы он был чист перед своими авторами. Впрочем, уволенные на таких же условиях, как и он, никто из них больше писать для Радио не собирался.
Далее была странная неделя. Говоров прокомментировал полемику в «Литгазете» (как ему показалось, весьма удачно и по существу — он вскрыл то, о чем в «Литгазете» умалчивали), дал репортаж с двух парижских выставок. В дневных программных телексах, что ложились на его стол, корреспонденции Говорова не было. Но Борис Савельев уверял: все в порядке, его материалы идут в эфир.
Между тем возобновились звонки. Джон из вашингтонского бюро поздравил Говорова: мол, им точно стало известно, что его переводят в Гамбург.
— У меня в кармане письмо, что я уже уволен! — изумился Говоров.
— Не знаю, — сказал Джон, — я передаю тебе то, о чем у нас говорят.
Позвонили из «Русской газеты». На летучке главный редактор сказала, что о Говорове не надо беспокоиться, он переезжает в Гамбург. Не было тайной, что у редакторши, американской чиновницы, прямая связь с Вашингтоном.
Позвонили из Гамбурга. Письмо составлено, его подписали все русские журналисты. С этим письмом делегация от профсоюза пошла к директору русской службы Уину. Уин сказал, что вопрос о Говорове будет пересматриваться.
— Что бы все это значило? — спрашивал Говоров у Савельева.
Борис поиграл пальцами рук.
— Одно могу сообщить. Вчера по телефону Уин мне признался. Они не ожидали, что твое увольнение вызовет такую волну. Попробуй спросить у Беатрис.
Выслушав Говорова, Беатрис пошла пятнами.
— Мне официально ничего не известно. Но вы правы, Андрей. Американцы дураки, они сами не знают, чего хотят. Ведь столько затрачено работы, чтобы провести это увольнение!
Тут Говоров должен был сказать: «Лицемерная Крыса, значит, ты первая с энтузиазмом рыла мне яму!» Но Говоров, увы, промолчал. Не тот был момент, чтобы идти на обострение.
Почувствовав, что проговорилась, Беатрис расплылась в сладчайшей гримасе:
— Скажите вашим друзьям, пусть поторопятся. Что-то изменить можно только в оставшиеся полтора месяца. И будьте спокойны: если я узнаю хорошую весть, я позвоню вам даже среди ночи.
Впервые после операции Кира встретила его улыбкой. Осмысленно расспрашивала о Денисе, девочках, о доме. И, глядя на ожившую Киру, Говорову показалось, что он сам оттаивает, что тот жуткий холод, который его сковывал все эти дни, сделал автоматом, механической куклой, уступает место человеческому теплу. Слава богу, Кире лучше! Может, это добрый знак, может, кончается черный период? Ведь все кругом упорно говорят о переводе в Гамбург. Вдруг? Вдруг друзья Аксенова, американские журналисты, нажали на Пелла, вдруг после письма русской редакции Уин и Лот сообразили, что малость погорячились, шибко резанули, вдруг звонок из Белого дома? И тогда он скажет Кирке: если б ты знала, из какой дикой ямы мы вылезли, в какую бездонную пропасть ухнули, но вот чудом зацепились, выкарабкались. И они запакуют чемоданы, свалят в контейнер мебель и отправятся на казенную квартиру в Гамбург, хором распевая под стук колес поезда старую военную песню: «В Германии, в Германии, в проклятой стороне…»