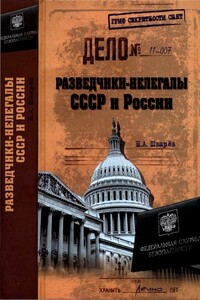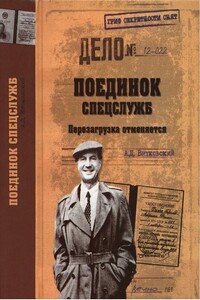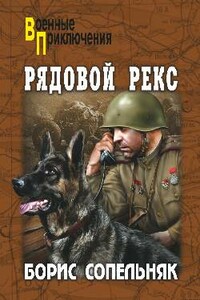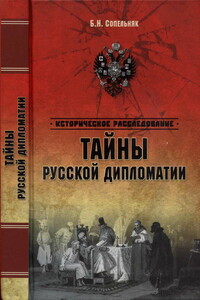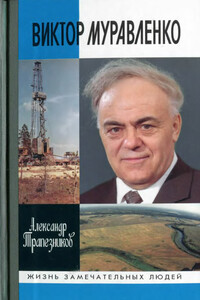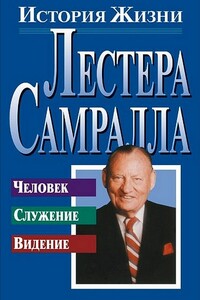Секретные архивы НКВД-КГБ | страница 2
РАССТРЕЛЯННЫЙ ТЕАТР
Не только история русского театра двадцатого века, но и история мирового театра немыслима без Мейерхольда. То новое, что этот великий мастер внес в театральное искусство, живет в прогрессивном театре мира, и будет жить всегда.
Назым Хикмет
Как жаль, что эти слова великого поэта о великом мастере театрального искусства были сказаны в 1955-м, а не пятнадцатью годами раньше! Как жаль, что вклад Мейерхольда в прогрессивный театр мира признан лишь теперь, а не в довоенные годы, когда Всеволод Эмильевич жил и творил!
Прозвучи эти слова тогда, подпишись под ними все те, кто его хорошо знал и работал с ним бок о бок, прояви они гражданское мужество тогда, а не пятнадцатью годами позже, возможно, и не было бы дела № 537, утвержденного лично Берией и закончившегося приговором, подписанным Ульрихом: «Мейерхольд-Райха Всеволода Эмильевича подвернуть высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества».
Чем объясняется невероятная спешка, связанная с арестом Мейерхольда, что за ветры подули в коридорах Лубянки, сказать трудно, но столичные энкавэдешники даже не стали ждать возвращения Всеволода Эмильевича в Москву, а приказали арестовать его ленинградским коллегам. 20 июня 1939 года его взяли прямо в квартире на набережной Карповки. О том, как это случилось, рассказывает его давний знакомый Ипполит Александрович Романович.
— Я был последним, кто видел Мейерхольда на свободе, — вспоминает он. — Я расстался с ним в четыре часа утра. Последнюю в своей нормальной жизни ночь он провел в квартире у Юрия Михайловича Юрьева. Их дружба-любовь началась еще со времен работы над «Дон Жуаном» в Александрийском театре.
Накануне вечером Всеволод Эмильевич пришел к Юрьеву поужинать. Он был мрачен и почему-то все время расспрашивал о лагере, вдавался в детали жизни заключенных. На рассвете Всеволод Эмильевич и я вышли из квартиры Юрьева. В руках Мейерхольд держал бутылку белого вина и два бокала—для себя и для меня. Мы устроились с бутылкой на ступеньках лестницы и продолжали тихо говорить о том о сем, в том числе снова о лагере и о тюрьме. Меня внезапно охватило странное чувство: мне захотелось поцеловать руку Мастера. Но я устыдился своего порыва и, смущенно откланявшись, пошел наверх, — закончил Ипполит Александрович.
А через несколько часов будущего врага народа посадили в спецвагон и, проведя осмотр на «загрязнения и вшивость», под усиленным конвоем отправили в Москву.