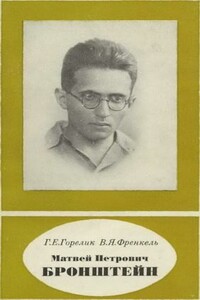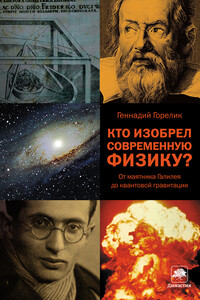Андрей Сахаров. Наука и свобода | страница 49
Но главное, чему можно удивляться, что Мандельштаму удалось столь полноценно реализоваться. Главная причина в том, что личность его притягивала и людей практического склада, готовых в реальной советской жизни обеспечивать стены и крышу для его школы.
На протяжении шести лет (1930—1936) это было главным делом Бориса Гессена.
Кто такой был Борис Гессен?
Профессиональный физик, доклад которого о Ньютоне, сделанный в 1931 году на Международном конгрессе по истории науки в Лондоне, по масштабам своего влияния стал одним из наиболее важных сообщений, когда-либо звучавших в аудитории историков науки. Так считает Лорен Грэхэм, один из крупнейших западных авторитетов в истории российской науки.[48]
Или же Гессен был «“красным директором”, задачей которого было присматривать, чтобы «научный директор» (известный физик профессор Л. Мандельштам) и сотрудники не уклонялись в идеалистических направлениях от прямой дороги диалектического материализма. Бывший школьный учитель, товарищ Гессен знал кое-что из физики, но больше всего интересовался фотографией и замечательно делал портреты хорошеньких студенток». Это из автобиографической книги Гамова, написанной в Америке 60-х годов.[49]
Пусть западные историки науки чтут в Гессене одного из основоположников, а читатели научно-приключенческой книги Гамова потешаются над претензиями школьного учителя-марксиста, но в российской истории роль Гессена была совсем иной. Он не был профессиональным физиком, не был и школьным учителем. И страсть к фотографированию девочек Гамов приклеил ему зря — этим увлекался другой профессор МГУ, из совсем другого — тимирязевского — лагеря.[50]
Главное дело Гессена началось в сентябре 1930 года, когда его, коммуниста, занимавшегося философией науки, назначили директором Института физики МГУ. С этого начался и расцвет мандельштамовской школы.
Канун 30-х годов в советской истории называется, с легкой руки Сталина, временем «великого перелома». Его тяжелую руку страна еще не ощутила в полной мере. Сталинизм только формировался в тоталитарную систему. Вождь успел расправиться — пока что политические соперниками в высшем руководстве, но на других уровнях власти еще оставались люди революционного поколения, может быть, и ослепленные социалистической идеей, но не подавленные страхом. Впереди еще была трагедия крестьянства и Великий террор 1937 года.
Искать единую формулу для советской истории мешают упрямые факты, и один из них состоит в том, что в начале 30-х годов государственная власть еще не подмяла жизнь науки. Об этом свидетельствует, например, то, что в 1931 году высшей премией страны — премией имени Ленина — наряду с Мандельштамом был награжден Александр Фридман. Это награждение, пожалуй, еще более удивительно. Ведь Фридман умер (от брюшного тифа) в 1925-м, вскоре после того как прославил свое имя открытием — на кончике пера — расширения Вселенной. Фактически он понял эйнштейновскую теорию гравитации лучше ее автора, который не сразу признал правоту русского математика. Наградили Фридмана, правда, не за космологию, а за динамику атмосферы. Но космология раньше и больше других физических теорий попала под удар партийных философов, которые ее и «закрыли» на десятилетия. И причастность к «поповской» теории могла бы перевесить всякие научные заслуги. То, что не перевесила, говорит о времени.