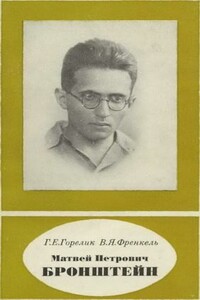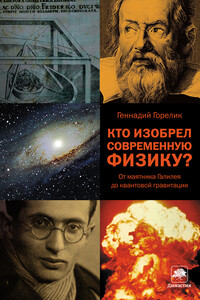Андрей Сахаров. Наука и свобода | страница 15
E = mc>2.
Российский путь к термоядерному солнцу начался в здании, построенном для Лебедева перед революцией. В этом здании, в Физическом институте Академии наук им. П.Н. Лебедева, в конце 40-х годов изобрели советскую водородную бомбу.
По иронии истории именно тогда именем П.Н. Лебедева орудовали казенные советские патриоты в их «борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом». А в Московском университете диссертацию о Лебедеве написал штатный сотрудник органов цензуры — органов, которые вместе с другими компетентными органами следили за порядком в стране.
Можно не оправдывать замечательного российского физика в этом. Как не надо было в 1911 году защищать его от самозванных патриотов, обвинявших Лебедева в том, что в доме подозрительного поляка на еврейские деньги он создал странную лабораторию, в которой занимается неизвестно чем.[5]
Наследие Лебедева, как видно из эпиграфа к этой главе, включает в себя не только науку. Для Сахарова Лебедев был одним из эталонов российской интеллигенции.
Это было странное сословие. Начнем с того, что само слово «интеллигенция», несмотря на его латинскую внешность, пришло в европейские языки из России в начале XX века, накануне драматических событий в Московском Университете. Новое слово понадобилось европейцам, чтобы назвать то, чего у них не было. Люди, занятые интеллектуальным трудом, в Европе, конечно, были, но их не объединяло чувство своей моральной ответственности за происходящее в обществе.
Причина, разумеется, не в какой-то особой нравственной одаренности россиян, а в социальных обстоятельствах России. «При господствующих здесь условиях, которые для европейца представляются совершенно невероятными и непонятными, — писал Лебедев своему европейскому коллеге, — я должен отказаться здесь от своей карьеры физика».[6] Этот российский интеллигент счел своим долгом отказаться от любимого дела — от дела жизни. Наверно, европейцу такой выбор понять было нелегко.
Российская интеллигенция формировалась вместе с включением России в жизнь Европы в XIX веке. К началу XX века, во всяком случае, можно было говорить о единой европейской культуре с весомым российским вкладом. Язык русской музыки не нуждался в переводе и звучал по всей Европе, но и в литературе, в переводе нуждающейся, книги Толстого, например, начинали жить европейской жизнью уже спустя несколько лет после своего появления, а иногда в том же году.