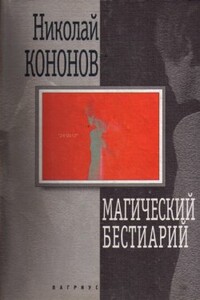Нежный театр | страница 3
Он жестко толкал сидевшего впереди, чтоб тот сместился вбок и не застил мне своей башкой восхитительное кино.
– И чё с детьми-то по ночам в кино шляться…
– Ты мне поговори! Зритель!
Но я твердо понимал, что он, мой отец, бросив пятипалую тень на экран, легко подталкивая меня, чтобы я разделил его вечернее удовольствие, расчищая для меня поле яростного зрелища, – очевидно и неукоснительно преуменьшался. С каждым кадром. Будто я познал его исчезновение. Под стрекот аппарата. В каком-то другом фильме, куда со всей очевидностью был втянут.
Вот я дождался кульминации, о которой никто кроме меня не догадывался. Героя, откалывавшего уморительные коленца, изловили. Легко и просто, как глупого карася, хотя он – прекрасен, силен и скользок. И вот он вздыхает прямо на меня – потное лицо, кровоподтеки, легкая щетина прокалывает холстину экрана. Тонким хлыстом ему перехватывают шею – там где гуляет кадык. Он тяжко багровеет. И я начинаю задыхаться вместе с ним. Полные глубокого покоя кадры асфиксии, кажется, не кончатся никогда. Отец замечает мою одеревенелость, шепчет: «Что это с тобой? Тебе что, плохо?» И я кручу головой, чтобы не выдать тайны своего наслаждения этой вопиющей мерой удушенья. Она обреталась здесь – в десяти шагах от меня – не наваждением, а переменой унылой участи моего бытия. Ведь я, живой и плотный переставал дышать вместе с ним – целлулоидным и непрочным. Я просто замирал.
Отец при следующей жестокой сцене мягко закрывает мне глаза ладонью.
На мое лицо спускалось забрало древнего шлема.
И я навсегда понял – как пахнет испод мифа.
Слабым солоноватым потом отцовской ладони.
Я ведь ее тихонько лизнул. Кончиком языка.
Это – вкус и запах войны, куда он мог уйти в любой миг.[3]
От меня…
Я и тогда был сам для себя загадкой. Почти не различал себя, будто был завернут в хрустящую непроницаемую фольгу, будто был написан на бумаге печатными литерами. Что было во мне? Вещица? Слово, обозначающее вещицу? Куколка? Подробный рисунок насекомого? Безымянный дар, иногда испускающий лучи, разжигающий меня так, что я становился хрустящим – любой шаг, самое незначительное движение давали о себе знать – в глуши, во тьме кромешной, на свету. Словно прописывали себя быстрыми литерами.
Я просто знал – что я был. Это не глагол – это сущность моего случая. Сущность, которую не объяснить, только уподобить. Но никаких уподоблений мне скоро не потребуется.
В зоне исчезновений, куда я попадал, время вытирало неумолимым ластиком целые карандашные абзацы, написанные печатными буквами.