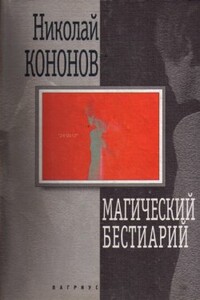Нежный театр | страница 19
Струя урины, резким шумом буравя холодающий час, ввинчивалась в обочину, в ее мякоть. Это был бесконечный эпизод, и мне казалось, что все, заизвестковываясь, застывало. Сдвинуться даже на микрон было невозможно. Этот эпизод годился для эпического полотна, так как в нем нет ничего дерзновенного и омерзительного. Я удерживался в нем не банальной силой своей тяжести или волей случая, что свел меня с отцом, а напряжением животной тревоги и душевного отвердевающего вещества. Будто вот-вот начнется буря и сметет меня и отца с этого безнадежного потемневшего клочка сиротского времени.
И этот эпизод оказался воистину гигантского размера. Он до сих пор давит и теснит меня.
Вот – мы оба с ним, с моим несчастным отцом, – абсолютная быстротечность, и мы, в сущности, – одни на всем белом свете, тревожно обступающем нас.
Отец виделся мне как сквозь сон. Я увидел все его неудачи. Увидел как он мне во всем признается. Во всех несчастьях. Так оно, впрочем, и оказалось.
Я не могу поручиться теперь за достоверность того события.
Я ни в чем не уверен. Только лишь в том, что к нам обязательно придет смерть. К нему – пусть во сне как завершение тяжелой и долгой болезни. А ко мне… – пока не знаю.
А пока я смотрю на него. И когда он лишится своей текучей субстанции, может начаться что-то совершенно новое. Для нас обоих. Это было чем-то вроде жесткой неотменяемой связи.
«Вот я и увидел твой член», – подумал я тогда, не изумившись тому, что меня не коснулась и тень смятения, и во мне не пронеслось и легкой толики стыда.
И я не отвернулся, и я не почувствовал себя Хамом, так как никакой частью своего существа не насмехался над ним.
Ни душой, ни телом.
Ведь они-то, душа и тело – мои, оказались, и я впервые понял это там, при тех тихих обстоятельствах (и не смею поименовать их дурацкими) еще и отцовскими.
До меня дошло, что и я – это он.
Абсолютно сразу я почуял знак равенства. Он пролег между нами.[12]
Да и потом, что я тогда увидел? Кто объяснит мне? Просто член своего отца? Его некрупный смуглый конец?
Теперь-то мне абсолютно ясно, что я увидел, что отец позволил мне в самом себе, отошедшем так далеко от меня, уразуметь. Вопрос только в том, понимал ли он сам это?
Ведь по сути, единственное, что я в нем, без тени стеснения мочащемся на моих глазах, различил, невзирая на тяжелые для меня подробности, которыми сейчас испещряю текст, был его чин.
О, не военный, конечно, нет.
Я уразумел в своем отце (о котором уже не мог сказать даже самому себе безлично: «в нем») сокровенность и особенность.