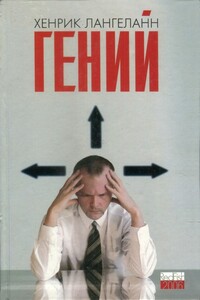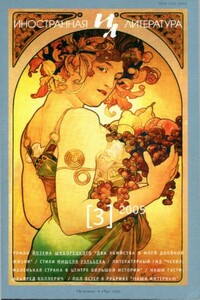Дверь в глазу | страница 38
Года три они прожили душевно. Потом Люси встретила мужчину своих лет, писавшего музыку для телереклам, и уехала с ним в Квебек. Папа был в изумлении от своего горя — под пятьдесят, с седыми кустиками в ушах, он впервые узнал, что такое разбитое сердце. Это было единственное время, когда он очень старался стать моим другом. Он зазывал меня к себе в выходные. Говорил, что любовь — как ветрянка: надо переболеть ею пораньше, во взрослом возрасте от нее можно умереть. Час или два он изливал душу, а потом заставлял играть с собой в шахматы — по двадцать-тридцать партий за выходные, и я всегда проигрывал.
Только раз я его чуть не побил. Он напился коктейлей и ошибся, подставил ферзя под моего коня. Я взял фигуру, он залепил мне по губам. Я убежал в ванную и ударил себя несколько раз по лицу, чтобы остался хороший синяк. Когда я вышел, он не извинился — то есть не совсем. Но сказал, что даст мне все что угодно, если не пожалуюсь матери. Я сказал, что хочу компьютер и духовое ружье. Отец составил контракт на бланке своей фирмы, и я подписал. В тот день мы купили ружье. Я подстрелил красивую зеленую пеночку, потом гладил ее и похоронил у матери на лужайке. Потом подстрелил голубя и синицу и отдал ружье соседскому мальчишке.
Через четыре месяца Люси вернулась из Канады домой. Отец принял ее, не простив, после чего множество раз изменял ей, считая это своим долгом перед ними обоими. Он поместил ее в псевдо-тюдоровский особняк, где света не хватало даже для калькулятора на солнечных элементах. Люси впала в депрессию. Она винила свое тело и наказывала его голодными диетами и триатлоном. И в кульминации своего режима превратилась в новое существо с большой головой лемура, надетой на тело газели. Когда ее щеки зацвели поздними прыщами, она, угрожая самоубийством, заставила врача выписать ей какие-то сильнодействующие таблетки. Таблетки избавили от всех семи прыщей, но покрыли лицо от подбородка до волос тонкими малиновыми трещинками. Пришлось замазывать их таким количеством мазей и кремов, что можно было подумать, она потеет тавотом. Примерно в это время я перестал грезить о Люси, «Мустанге», тайных комнатах, переулках и об укромных лесочках.
Когда у отца стало плохо с головой, мне было за двадцать. Поначалу я думал, что отец не помнит, где я живу и что я окончил школу, — из-за углубившегося агрессивного равнодушия, с которым он всегда ко мне относился. Но оказалось, что ни один из десятка с лишним хороших неврологов не может понять, в чем дело. Это не был ни Альцгеймер, ни какая-либо из иных известных форм слабоумия.