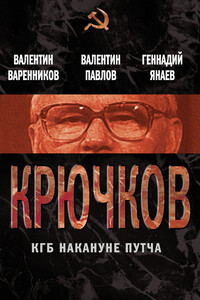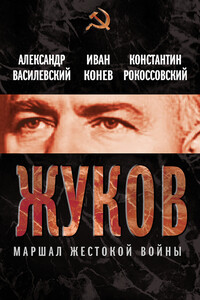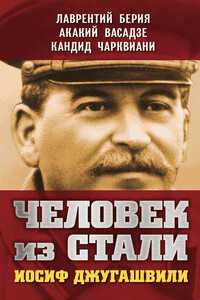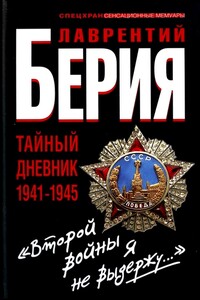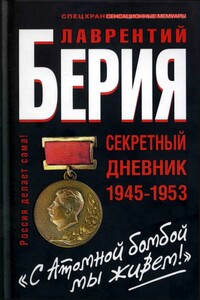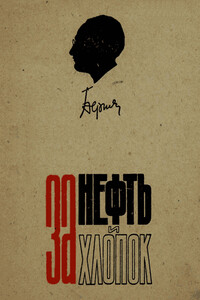Сталин. Поднявший Россию с колен | страница 45
«Литература должна стать партийной. В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, "барскому анархизму" и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме».
«В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела…»
И далее, в той же статье:
«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».
Ленинизм исходит из того, что наша литература не может быть аполитичной, не может представлять собой «искусство для искусства», а призвана осуществлять важную передовую роль в общественной жизни. Отсюда исходит ленинский принцип партийности литературы — важнейший вклад В. И. Ленина в науку о литературе.
Следовательно, лучшая традиция советской литературы является продолжением лучших традиций русской литературы XIX века, традиций, созданных нашими великими революционными демократами — Белинским, Добролюбовым, Чернышевским, Салтыковым-Щедриным, продолженных Плехановым и научно разработанных и обоснованных Лениным и Сталиным.
Некрасов называл свою поэзию «музой мести и печали». Чернышевский и Добролюбов рассматривали литературу как святое служение народу. Лучшие представители российской демократической интеллигенции в условиях царского строя гибли за эти благородные высокие идеи, шли на каторгу, в ссылку. Как же можно забыть эти славные традиции? Как можно пренебречь ими, как можно допустить, чтобы ахматовы и зощенки протаскивали реакционный лозунг «искусства для искусства», чтобы, прикрываясь маской безыдейности, навязывали чуждые советскому народу идеи?!
Ленинизм признает за нашей литературой огромное общественно-преобразующее значение. Если бы наша советская литература допустила снижение этой своей огромной воспитательной роли — это означало бы развитие вспять, возврат «к каменному веку».