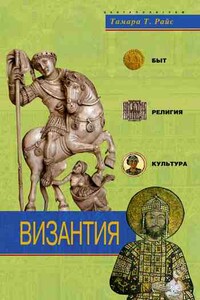Антихрист | страница 9
Ницше писал к Мальвиде фон Мейденбург 3—4 апреля 1887 г.: «Угодно ли Вам услышать одно из новых моих имен? В церковном языке существует таковое: я есмъ… Антихрист»> [32].
Так, герой скандально известного романа–исповеди В. Свенцицкого «Антихрист. Записки странного человека» (1908) обнаружил в духовных контурах своего внутреннего существа великого противобога. Автор–герой оглядывается в пустоте обезбоженного мира и, как Самаэль (одна из ипостасей Люцифера) известного мифа, решает, что он и есть бог, т. е. человекобог, т. е. противобог, т. е. Антихрист. Свенцицкий не без ужаса, смешанного с эстетским нарциссизмом, наблюдает, как душа его героя из глубины падения взыскует Бога посреди немого, безответного, безблагодатного мира. Так в русском быте появляется ницшезированный личный Антихрист.
Персональное самотитулование входит в моду: антихристами назвали себя Н. Клюев и А. Скрябин. А. Белый высказался об известном поэте–современнике: «Это — предтеча Антихриста, этот верзила Маяковский. В нем есть что‑то от Вельзевула. Это даже не пришедший хам, это какой‑то посланец из преисподней»[33]. История русской ницшезированной личности вступает в новый этап. Этот этап эстетизированного человекобожества, о котором так много сказано было такими публицистами религиозного толка, как Н. Бердяев и С. Булгаков. Первый из них в статье «Духи русской революции» (1918) говорит о политических соблазнах современного антихристианства: «Русские революционеры, апокалиптики и нигилисты пошли за соблазнами антихриста, который хочет осчастливить людей…» Достоевский, по его мнению, «понял, что в социализме антихристов дух прельщает человека обличьем добра и человеколюбия». Основной идеей Петра Верховенского, эстета во зле, является «инфернальная страсть ко всемирному уравнению<…>бунт против Бога во имя всемирного счастья людей<…>подмена царства Христа царством Антихриста». В сходных интонациях идет речь о Ставрогине в другой работе Бердяева («Ставрогин», 1914) и у Вяч. Иванова («Основной миф в романе «Бесы»», 1914); близка им по духу лекция С. Булгакова, прочитанная в Киеве 21 ноября 1901 г. «Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип».
Действительность революционной России озвучена для русских философов голосами героев Достоевского и повита их бесовским неистовством. «Во всяком довольном позитивисте наших дней сидит маленький Великий Инквизитор, в речах иных верующих социалдемократов звучат знакомые голоса маленьких великих инквизиторов».