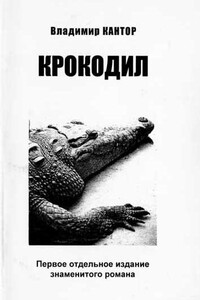В поисках личности: опыт русской классики | страница 6
Чтобы остановить анархию и разбой вольницы гражданской войны, возникла нужда в «твёрдой руке». Но и сама вольница — оборотная сторона бесправия. Не случайно, у неё общий корень со словом «произвол»: Бунин проводил параллель между «красным террором» и разинской вольницей. Этот произвол усвоила и диктаторская власть Сталина. Советы, рождённые творчеством масс, но не подкреплённые «буржуазным» правом, правом личности, подпали под власть тоталитарной структуры, стали её элементом. Свобода, в отличие от вольницы, имеет ограничительный характер, меру, предел. Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Ибо человек есть крепость, которую нельзя тронуть. Эта крепость должна быть несокрушима. Такова была проблема, поставленная русской историей перед русской литературой.
I. БЕСХОЗ ИЛИ НАСЛЕДСТВО?
В первый же год (1963) моего обучения на филологическом факультете МГУ одна очень милая барышня, на которую я неравнодушно поглядывал, спросила как-то: «Неужели ты собираешься заниматься XIX веком? Там же всё совершенно известно». Смысл этого речения был: по проторенной тропочке идёшь, а я о тебе лучше думала.
И вправду, все (или почти все) имена писателей, философов, историков XIX века упоминались в наших университетских учебниках. Во всяком случае — основные, так нам казалось (заниматься же второстепенными — скучно, себя не уважать). На каждом имени была табличка, номерной знак, клишированная надпись. XIX век во всех статьях и книгах привычно называли классикой, классиков же трактовали, как недоучившихся студентов: этот недопонял, а тот и вовсе не понял, зато некто очень даже приблизился. Словом, культура была похоронена по первому разряду, целую эпоху загнали на кладбище. Так и шло в нашей студенческой жизни. С Достоевским было лучше не связываться из конъюнктурных соображений. С Чернышевским — неприлично, перед свободомыслями стыдно. А имена Каткова, Кавелина, Эдельсона и других, о которых мне впоследствии казалось интересным писать, вообще не обсуждались как возможные темы для размышлений.
И всё же начало шестидесятых было пережито нами недаром. Эти годы, с их попыткой преодоления сталинизма, реабилитацией вычеркнутых из жизни писателей, странным образом бросили отсвет и на XIX век, по-своему переживая, переосмысливая многие проблемы, сто лет назад поставленные. Оказалось, что те проблемы по-прежнему требуют обсуждения и размышления — хотя бы в форме историко-культурных статей. (Мы и в самом деле до сих пор не до конца оцениваем мощь и силу духовного и культурного переворота, происшедшего у нас в XIX веке.)