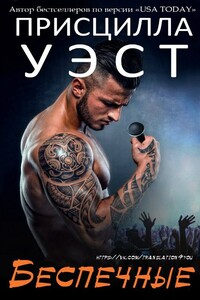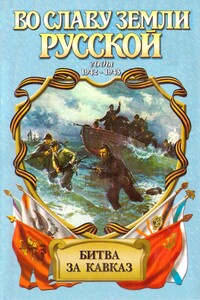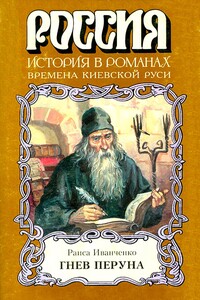Сосунок | страница 10
И боль, и страх за своих, за себя совсем придавили Ваню. Ему казалось, что он один такой беспомощный и несчастный, и не догадывался, что и у других на сердце было не слаще. Ведь и всех остальных война тоже только-только оторвала от кровных дел, от отцов и матерей, от жен и детей, от всей их прежней, устоявшейся и размеренной жизни, согнала в чужую безводную степь. И чем громче ревел и ярче горел в ночи надвигавшийся фронт, тем упорней в каждом из только испеченных солдат, да и в ком-нибудь, должно, из бывалых схлестнулись, с одной стороны, долг, дисциплина, приказ, с другой — неизвестность и страх смерти.
На пятые сутки непрерывного пешего марша полк дошел наконец до переднего края.
Позицию — первую огневую позицию занимали до рассвета, еще с темнотой, под возбужденные приглушенные командирские окрики, в смятении и спешке, в непривычной предбоевой толчее.
Опыта, навыка, как огненную позицию занимать, что, как, в какой очередности делать… автоматического, чтобы само по себе получалось, ни у кого еще не было. А он, этот опыт, только и делает во время боя наводчика настоящим наводчиком. Да и с чего бы взяться ему, этому опыту? Как, когда? С учебы, что ли, урывками, от стрельбы холостой? И когда он, Ваня, спохватился, чтобы насадить прицел на орудие, на специальный кронштейн, только тогда и вспомнил, что оставил его в передке. А Лосев, ездовой, исполнив свой долг — доставив орудие на огневую позицию, — уже укатил.
Без прицела пушка не пушка, так, груда металла. Ее будто и нет.
Узнав об этом, и без того узкоглазый, какой-то весь жилистый, собранный, злой отделенный еще пуще напрягся, прищурился ядовито и яростно.
— Дурак твоя! Фуй! За это моя твоя будет стрелять! — Сорвал с плеча карабин. Прожег в бешенстве наводчика углистыми, с шаром глазами. — У-у! — схватил его за грудки, начал трясти. — Пока наша тут огневая копает, один нога здесь, другая там!
Ваня даже дышать перестал. Закаменел. Язык к небу так и присох. Ни слова вырвать не смог из себя в оправдание. Да и что тут сказать? Что? Только задергались в тике, как всегда у него в потрясение, правый глаз и щека, уродливо исказилось лицо. В детстве еще, когда едва не утонул, впервые прохватило это его.
— У-ум! — промычал снова яростно Казбек Нургалиев, из всего расчета, а, пожалуй, и из всей батареи (и это тоже сразу бросалось в глаза) не по возрасту самый крутой и решительный. Потому-то, наверное, на петличках лишь его гимнастерки и красовалось по одному красному треугольничку с желтой каемкой. Нацепили ему, конечно, условно, чтобы только выделить: как-никак командир. А тоже ни школы командирской нигде не кончал, ни, как и все в отделении, еще не нюхал и пороха. В боевых делах и он полный профан. — У-ум! — скрипнул он снова жемчужными тисками маленьких острых зубов. — Я твоя мама!.. Бегом!