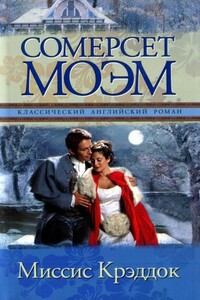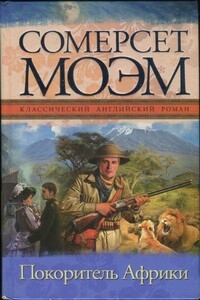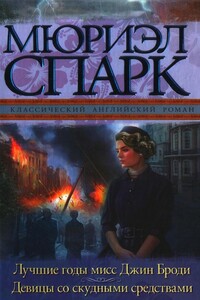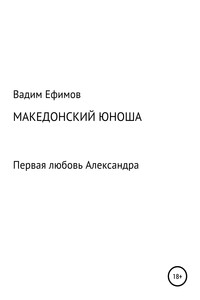Поругание прекрасной страны | страница 6
— Доброе утро! — кричит мне сосед, забойщик Тум-а-Беддо. Он стоит во дворе в чем мать родила, а сыновья обливают его из ведер.
— Доброе утро! — кричу в ответ, дрожа от холода.
— Значит, сегодня идешь на Вершину, Йестин?
— Ага!
— Молодец! Ну, ни пуха ни пера!
Хватаю сухое полотенце и изо всех сил тру спину. Кричу, пляшу, пою, и жар охватывает озябшее тело. Скорей натягиваю рубаху, заправляю ее в штаны — и к двери, пока мороз опять не вцепился в меня своими скрюченными пальцами. Но тут же передумываю, поворачиваюсь и мчусь в глубь сада. Распахиваю дверь — там Морфид.
— Господи, — говорит она, — и тут не дают покоя!
— Да скорей ты, а то сейчас наделаю в штаны!
— Ну и делай, мне-то что. Я первая пришла. А ну-ка, постой.
Щупает у меня под рубахой.
— Так.
Морфид выходит, и я занимаю ее место. Она идет к кухонной двери и говорит отцу:
— Йестин не хочет надевать фуфайку, которую я ему связала, а сегодня такой холодище, что хоть в шкуры закутывайся.
Вот дрянь!
— Надень фуфайку, — кричит отец, — и застегнись как следует, а сейчас закрой, пожалуйста, дверь!
Прочитываю один листок «Ведомостей», другой пускаю в дело и бегу домой.
Когда я вхожу на кухню, Морфид опять щупает у меня под рубахой, но я даже не злюсь — мне не до нее. От запаха жареной грудинки у меня аж живот сводит.
Наверно, хорошо быть свиньей и приносить людям такую радость. Ничто не может сравниться с этим запахом, проникающим во все уголки дома; он залезает в постель матери, раскрывает глаза Эдвины, щекочет в носу у Тум-а-Беддо, вырывается из окошка и поднимается по склону горы прямо в небо, куда попадают все свиньи — животные с чистой совестью. Эдвина, сонно моргая, высовывает голову из-под стола.
— Рад вас видеть, сударыня, — говорит ей отец. — А между прочим, готовить завтрак полагалось бы вам. А ну, живо умываться — и за стол.
С Эдвиной отец никогда не разговаривал строго. Она выбралась из-под стола на четвереньках и, улыбаясь, откинула с лица длинные белокурые волосы.
Моей второй сестре, Эдвине, было тринадцать лет.
Нарисовать ее портрет смог бы только искусный лондонский художник. Она была красива, но в ее бледном гордом лице было что-то большее, чем красота, — спокойная ясность. У нее были такие необыкновенно светлые, чуть раскосые глаза, что прохожие оборачивались на улицах. От Эдвины веяло непостижимой и глубокой тайной, и когда она училась в школе, никто не хотел сидеть с ней за одной партой, потому что все боялись страшных