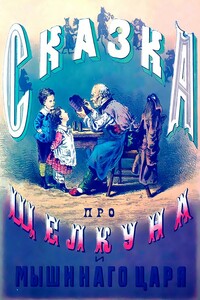Возвращение корнета. Поездка на святки | страница 83
Он помолчал, посмотрел на Подберезкина, а потом, лукаво сощурив один глаза, спросил:
— Ребята пытают меня: скажи да скажи, Никита, что с нами зараз будет? Стращали нас, что повесят, мол — не сдавайтесь. Я и говорю: как есть повесят, задом кверху.
— Ты не скаль зубов-то! — прервал его один из сидевших, тот, которого Калинкин назвал Миколаем, — черноволосый, красивый парень с тонким носом и тонкими губами. — Повесят и всё, рыжего-то уж, полагаю, повесили.
— А то, браток, особая статья, — рыжий-то. А мы с тобой кто — солдат, стрелок, серая пешка. За что ж нас вешать? Вот господин или товарищ, — не знаю, как вас назвать, у нас всех товарищами зовут, — может, пояснит.
— Разумеется, — за что же вас вешать! — ответил Подберезкин медленно и тут же вспомнил лагери русских военнопленных, которые ему довелось видеть в Германии; вспомнил тысячи русских смертей от голода, от морозу, от тифа, от побоев; вспомнил ужас, который сам он пережил при виде их, и невольно замолчал. Как можно было им лгать? Могли их и повесить, и расстрелять, и уморить голодом, только за то, что они русские, «низшая раса», как те говорили; в этом ведь Корнеманн и ему подобные видели свою «миссию на Востоке». Всё это быстро прошло через его сознание, но всё-таки таилась еще надежда, что он заблуждался, и потому поспешно он вновь заговорил: — Разумеется, не повесят — за что же вас вешать.
— А вешают нонче, браток, за то, что ты человеком родился. А то сам стал бы вешать, — отозвался вдруг тамбовский парень, всё время сидевший молча.
Подберезкин заметил, что многие из лежавших на полу смотрели на него, явно прислушиваясь к разговору, и ему хотелось найти ту душевную ноту, что всегда он умел находить раньше, разговаривая с крестьянами или солдатами своей роты, но теперь ничего не выходило. Было два верных способа для разговора с народом: один — тот, которым говорил его отец, — как высший с низшим, как имеющий право приказывать; мужики уважали и слушались, обычно, таких людей; другой тот, которым говорила его мать, — как равная с равными; мужики, обычно, не слушались ее, но любили и охотно прибегали к ней за помощью. Третий же тон — которым он теперь сам говорил — был тон подлаживания к мужикам; они это сразу замечали и не уважали говорившего так с ними и не любили. Подберезкин это всё сам подметил и знал давно, еще с детства, но применить теперь свое знание на деле как-то не умел. Все они были для него уже не те, что прежде, что-то отличало их от того народа и того времени. Видно, выросли в России совсем иные люди. А может быть и сам он переменился, стал чужой для них. Нельзя, говорят, унести родины с пылью башмаков.