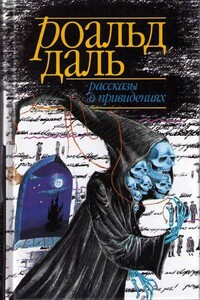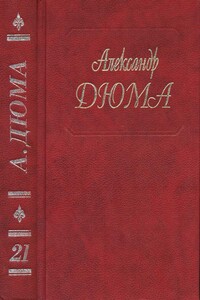Возвращение корнета. Поездка на святки | страница 76
Когда он уже подходил к своей избе, глубоко, всем ртом, втягивая холодный, останавливающий кровь воздух, его нагнал Паульхен.
— Не будьте нам, пожалуйста, злой, — заговорил он по-русски: — мы не все так думаем, как Корнеманн. Я очень люблю Россию и русски. В Берлин я иду всегда в русский ресторан слушайт русски петь. Никто так не может петь, как русски.
— Я очень рад, — ответил Подберезкин, действительно радуясь словам Паульхена и всему его появлению. А тот сгреб его руку в свою лапу и долго тряс, радостно гогоча и пытаясь что-то говорить по-русски.
V
Под утро русские начали бой. Безошибочно, старым чутьем военного, Подберезкин уловил это даже сквозь сон. Услыхав, как где-то вдали словно ухнула и раскрылась земля, он сразу понял, в чем было дело. Тяжелая артиллерия била из-под Ленинграда. До города было верст тридцать-сорок, и сперва снаряды ложились далеко — били по передовым немецким линиям. Одеваясь, Подберезкин прислушивался, чуть напрягаясь телом, к дальним взрывам, к сотрясению и гулу воздуха, к легкому дрожанию стекол и посуды; всё это было так знакомо по гражданской войне и опять переносило в те времена. С немецкой стороны сначала не отвечали; а потом тяжело, колебля землю, воздух, весь дом, стали бить сзади; со страшным громом раздавался выстрел и, гудя, посвистывая и словно перекатываясь в воздухе, уносился снаряд за снарядом. Балтиец и Эльзенберг молча оделись и убежали из избы; вошел старик и за ним появилась старуха, оба крестились, вздыхая, при звуках выстрелов, но ничего не говорили. Когда над избами, повизгивая и забирая за собой воздух, пролетал снаряд, старик подымал лицо, прислушивался, выражение его было строго, как на молитве. Сам не зная, что делать, ибо никогда не находился в бою без занятия, корнет вышел наружу. День был, как и вчера, ясный, холодный; тонким синим жезлом уходил в небо дым из труб, выгибаясь синели снежные поля, синел лес вдали, вливаясь в легком тумане с небом, — весь мир был голубой под этим голубым и чистым куполом неба. И странно — этот бой не нарушал величия мира, а скорее гармонировал с ним: в том и другом была жуть.
По деревне пронеслись с треском несколько мотоциклистов с поднятыми меховыми воротниками, в меховых шапках, с винтовками поперек спины, а затем из соседнего села, где была церковь, поползли по снегу серые танки, выставив вперед дула орудий, и издалека были похожи на стадо каких-то тяжелых зверей. Они рассыпались веерообразно по полю и ползли медленно к лесу, вздымая снежную пыль. Канонада усилилась, перейдя в сплошной гул, иногда на небе едва уловимо вспыхивало и расходилось белое пламя — видно, били по аэропланам, но гула их не доносило. Переживал сегодня Подберезкин первый бой после многих лет, бой — казалось бы — с теми же, с кем бился и он тогда, с кем у него не могло быть примирения, но он не чувствовал желания в нем участвовать, не знал даже с уверенностью, к которой стороне он принадлежал. Это было странно, но в этой войне трудно и даже невозможно было определить — кто был истинный друг? Стоя на пригорке у черемуховых кустов, сплошь опаленных инеем, Подберезкин смотрел на исчезающие в лесу танки и ловил себя на том, что внимание его занимал, пожалуй, не гул боя, не разрывы снарядов, а скорее неутомимый, неизменный звон синицы, шедший из-под кустов, — о чем она там пела и хлопотала?