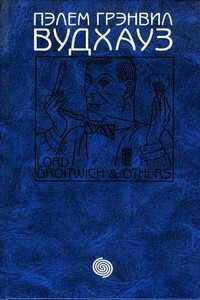Возвращение корнета. Поездка на святки | страница 120
— Смерти не бойся, грехов, худого бойся.
— Третьего дни, — продолжал парень рассказывать, не обращаясь ни к кому, как будто самому себе, — ходили мы с Семухиным на разведку, как знаете, до соседнего села; ну, пробираемся обратно до лагеря, по опушке идем. День — не день, а песня, всё тебе поет — солнышко, птицы, лес. Только далече где-то легкие орудия бьют, такая мать… так сердце и обливается — почто жить мешают, песне жизни? Ползем по опушке, зараз я вижу — немец, часовой, у сосны приткнулся, ружье рядом стоит. Я — Семухину, а он поотстал — знак: аккуратней, мол, не шабарши, а сам дивлюсь: как немец нас не заслышал? И вижу — спит! Ружье к сосне поставил, ворот мундера расстегнул, куфайку приоткрыл, пригрело солнцем — и спит, как дитя малое. По уставу учили: либо бить немца, либо в плен, а я не могу — спящий человек, как спящего обидеть? Один так бы и ушел, оставил немца — пускай досыпает, а Семухин — что с него взять, ишь орет! — как подкрадется, гадюка, мне и опомниться не дал, штык прямо в грудь всадил, тот и не пискнул. Живьем, понятно, нельзя было взять — закричит, деревня занятая близко; стрелять — тоже услышат, одно — штык. Семухин его живо и обкарнал: куфайку снял, на себя оболок, сапоги стащил, перевязал, за спину себе бросил, карманы обшарил и дале пополз. Мне даже слова не сказал. И я дурак дураком остался. Мой был немец, а Семухину достался. Остался я один, смотрю — был человек и нету человека, как спал, так и не проснулся. А глаза открытые — страх! Никак не могу понять, что это такое. После всех этих делов совсем как чумной хожу. Себе не рад. Кушаю, а ровно кто чужой, не я, кушает. Плохой я солдат.
— Смерть да жена — Богом суждена. А спящего человека бить это точно, что дитя малое обидеть. А с него, что спросишь. Семухину, говорю, война — что мила жена. Совести ни на грош. Бей да водку пей, грабь да бабу лапь. Вот и вся наука.
У того костра запели, но песне мешал пьяными выкриками Семухин и другой пьяный голос. Там от них хотели, видно, отвязаться; было слышно, как уговаривали Семухина лечь спать; а тот всё заявлял громко, что пойдет в село за бабами и за самогоном. В конце концов он действительно поднялся и, неверно ставя ноги, пошел; заметив по пути сидящих у другого костра, повернул к ним. Подойдя, он вдруг разглядел Подберезкина, открыл в изумлении рот, пошарил по боку рукой, ища, видимо, оружия, и завопил:
— Немец! Фриц! Кто позволил? — застрелю!