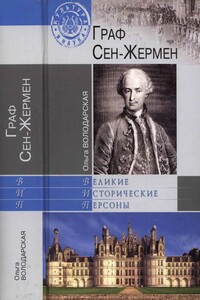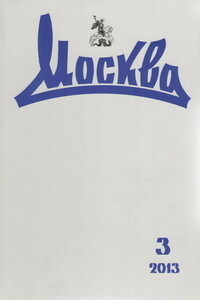Николай Гумилев | страница 84
Очень интересна в этой связи эволюция образа храмовой молитвы в произведениях Гумилева — от ранних, декадентских лет, до акмеистического перелома начала 1910-х годов и далее — в поздние, «классические» годы творчества.
В ранних стихотворениях и поэмах чаще всего встречается крайне неопределенная картина, стилизованная в духе тогдашней литературной моды под «оккультные образцы» с их тяготением к античным культовым действам. Речь идет о «зеленом храме» («Император Каракалла», «Вы все, паладины зеленого храма…»), напоминающем либо языческие капища в чащах или на вершинах гор, либо римские садовые алтари, посвященные пенатам. Иногда добавляются штрихи, воскрешающие в памяти древнегреческие храмовые строения, — упоминается о «белом мраморе», «покое колоннады» («Осенняя песня») и т. п. В таком храме герои Гумилева молятся «новой заре» («Император Каракалла»), «переменным небесным огням» («Он воздвигнул свой храм на горе…»), иногда — просто бросают на алтарь «пурпурную розу» в качестве жертвы, «дрожа» при этом от мистического восторга («Осенняя песня»). Собственно же «молитвы» их представляют собой либо стихотворную рецитацию, либо магические заклинания, либо неназываемые «таинства обряда» («Озеро Чад»).
В этой модернистской оккультной эклектике можно, пожалуй, выделить лишь два мотива, обещающие в будущем развитие гумилевского художественного мышления в сторону воцерковления. Во-первых, фантастический «храм» раннего Гумилева всегда— «строг»:
В этом храме «быть нельзя / Детям греха и наслажденья», здесь — царство печали, покоя, «снегового холода» («Он воздвигнул свой храм на горе…»), культ, протекающий в пределах гумилевского «зеленого храма», требует исключительного целомудрия, так что охваченные «пьянящей» страстью любовники должны покинуть «священные рощи» («Любовникам»), Не случайно, что то же художественное определение присутствует и в единственном стихотворении в раннем творчестве Гумилева, где образ храмовой молитвы обретает «конфессиональную конкретику»: