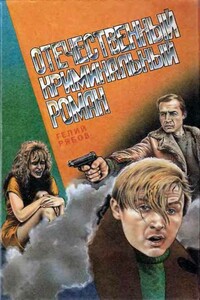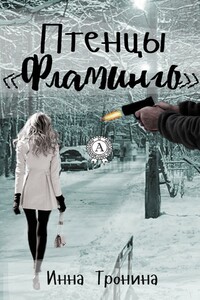Странный Фаломеев | страница 26
— Останемся… — Фаломеев пожал плечами. — Банальность такая — слыхал? — в одну воронку снаряд дважды не падает…
Тоня прислонилась к стогу спиной и съехала по скользкому сену на траву. Это было как в детстве, на даче… Однажды она научила этому Вову… Где он теперь… Она старалась вызвать в памяти лицо, фигуру, вспомнить голос, ничего не получалось, все время всякая дрянь лезла — то замдекана Мурин с плоским лицом и оттопыренными губами читал спецкурс по Островскому, изрекая глупости с неизбывно научным видом: «Катерина мечтала, чтобы полетел весь свободный русский народ, все человечество, она — предтеча Любови Яровой…», то Тихон… Где-то в подсознании, неощутимо совсем, покалывала иголочка несправедливости, неоправданного зла, совершенного по отношению к Тихону, словно бывает зло оправданное, да ведь, что поделаешь — не стерпелось, не слюбилась, и, слава Богу, не увидимся больше, а слова про любовь, которая повторяется раз в тысячу лет, — что ж, Тихону выпала такая любовь, а ей — нет, виновата ли она?
Тоня посмотрела на летчика, он стоял, прикрыв глаза красными веками, и покачивался тихонько — с носка на пятку, губы у него шевелились, он, похоже было, с кем-то разговаривал. Тоня попыталась вызвать в себе ненависть к нему, праведную, яростную и всепоглощающую, но у нее ничего не получилось, наверное, в эти первые часы войны отдельные немцы еще не воспринимались винтиками механизма смерти — несмотря на форму, они были еще только конкретны: неподалеку от Тони стоял Отто Риттер, молодой человек, оказавшийся в плену еще до начала войны, еще не успевший никого убить, растерзать, уничтожить. Это странное противоречие занимало Тоню — зло, которое упорно не желало персонифицироваться.
— Вы… воевали? — спросила она на дурном немецком. — Пришлось?
Летчик напряженно вслушивался, на лице его явственно обозначилось страдание, словно Тоня водила гвоздем по стеклу, он морщился, стараясь подавить вспыхнувшее раздражение — как она смеет разговаривать по-немецки с таким акцентом?
— Воевал. Во Франции. Я — истребитель, я сбил француза, — он говорил без малейшей опаски, стеснения, ведь «фройляйн» интересуется, как и все молодые девушки в подобных случаях.
Тоня поняла.
— Вам не стыдно? — спросила она искренне. — Вы не сожалеете?
— О чем? — еще искреннее удивился немец.
Если бы эта русская знала, в какое трудное время он родился… Проиграли войну, безработица, почти голод, попытки марксистов объевреить тысячелетнюю Германию, истребить национальный дух! Восприняв все это с пеленок, — можно ли было не надеть рубашку с черным галстуком, можно ли было не понять отца, который маршировал вместе со всеми в городе для того, чтобы люди получили работу, у них появились деньги и они смогли, наконец, покупать рубашки и простыни в лавке отца?