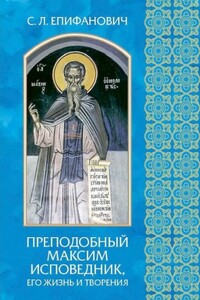Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие | страница 30
Оба мира — и чувственный, и мысленный — не только сходны по своему составу[354] и сродны по одинаковому отношению к Логосу, но и поставлены во внутреннюю гармонию между собой. В чувственных вещах, как типах (отобразах), можно созерцать идеи (λόγοι) мира мысленного[355], и наоборот. Логосы того и другого мира параллельны. Чувственный мир есть символ духовного и в своих λόγοι сливается с ним. Божественные идеи (λόγοι) естества, промысла и суда одинаково проявляются и там и здесь[356].
Учение о человеке
Лучшим выразителем этой гармонии является человек. Он представляет собой»малый мир в большом», микрокосм[357], соединяющий в себе и мысленный мир и телесный. К каждому из миров он принадлежит по естеству (душе и телу) и каждый из них охватывает своими энергиями — умом и чувством[358]. Оба мира приведены в нем в строгое единство. Каждая сила души его находится в гармоническом соотношении с чувствами тела и соответственными органами[359]. Каждый элемент чувственного познания дает, как символ, основу для мысленного[360].
Являясь средоточием тварного мира и созерцаемой в нем гармонии и как бы вмещая в себе весь мир, человек, естественно, должен иметь такое же значение, какое принадлежит всему делу миротворения, а вместе с тем получить в самом мире преимущественное положение и стать в отношения преимущественной близости к Творцу мира — Логосу. И действительно, человек выступает среди всего тварного бытия с особенным значением. Если мир и каждая вещь в нем причастны Логоса, то в особенности причастен Его человек: он — образ Божий