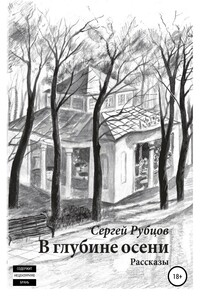Реквием по живущему | страница 69
Когда он направляется к дому, за беленой соседской оградой за ним следит с любопытством густая и темная синь. Встретившись с ней глазами, он тут же одергивает себя и опускает голову, но спотыкается на ровном месте и, заслышав ее звонкий, смелый грехом своим смех, твердит себе злыми и правильными словами: «Я научусь их ненавидеть. Я прикажу себе ненавидеть их цвет. Эта женщина познала разом двух мужчин. Это не женщина. Я научусь... Я уже ее ненавижу. А как отдохну и просплюсь, так и вовсе...»
Он переступает порог, за которым висит прозрачная в сумерках тишина. Ее колеблет торопливый, затравленный храп, и отец впервые за этот день, несмотря на повисший здесь спиртовый дух, ощущает вдруг нечуткими от пьянки ноздрями кисловатый и терпкий заквас чужих запахов. Он опускает засов, стоит и дышит, потом, уперевшись спиной в дверь, садится на корточки и смотрит, как заостряет пока неглубокая тьма блеск на полках, где выставлен товар. Он слышит, как настойчиво и неустанно треплет ветер занавеску на открытом окне и постукивает вправленным в раму стеклом. Тьма становится глубже, блеск — острей. Потом он заостряется настолько, что от напряжения начинает рябить в глазах. Отец опускает веки, и ему снится страшное синее небо над покинутым им аулом, и он вспоминает, что покинул его, чтобы лечиться взятым взаймы чужим временем. Его не будит ни шмыгнувший из подсобки вороватый сдавленный вскрик, ни усталое чертыхание и звякнувшая посуда, ни просочившийся сквозь холодные запахи теплый и пряный табачный дым. И когда тихо подкравшийся лавочник набрасывает на него цигейку, отцу представляется, что это дым согрел его.
В эту ночь она не придет. А наутро узнает, что овдовела. «Видишь ли,— скажет лавочник, обращаясь к отцу,— ей достаточно поглядеть будет, как ты за стойкой маешься. Она вмиг сообразит, и никаких первых слов не нужно... Первые слова — хуже них ничего... Ведь, какая-никакая, а у нас с ним дружба была... Так что ты, приятель, перекуси чего-нибудь (там, на столе все, я уж успел, пока спишь, у колбасника побывать) и становись, а как клиент войдет, стукни эдак вот легонько в стенку, я его сам принять помогу...»
Только знаешь, говорил мне отец, она не то что любить — и плакать-то толком не умела. Падшая женщина. Падшая во всем. Вместо плача и слез — одно нытье. И я подумал: дрянь. И презирал ее до скрежета зубовного. Только она и теперь никого не стыдилась. Дня три хворала, а потом траур надела, пришла и попросила: «Вы бы свезли меня к нему на могилку». И лавочник ответил: «Да-да, конечно». И я сказал: «Я не могу. Мне еще рано туда». И он опять: «Да-да, конечно. Поедем вдвоем, ты да я».— «Хорошо,— кивнула она.— Завтра?» — «Как тебе будет угодно,— ответил он.— Завтра так завтра. Конечно, завтра. Завтра лучше всего».— «А как же лавка?» — спросил я. «Никак. Отдохнешь четыре дня. Да и в доме освоишься».— «А почему он ехать отказывается?» — спрашивает она. «Потому,— отвечает лавочник,— что... Кстати, а почему бы тебе и в самом деле с нами не съездить? Я бы твоего старика клятвой заверил, что ты у меня помощником служишь...» — «Нет,— покачал я головой.— Чтобы простить, ему привыкнуть нужно».— «К чему привыкнуть?» — «К тому, что я сбежал. Я ведь сперва сбежал, а уж потом к тебе в подсобники подрядился...» — «Ну-ну, как знаешь».