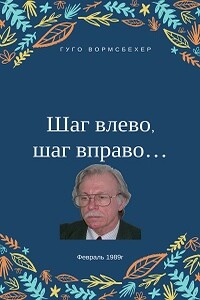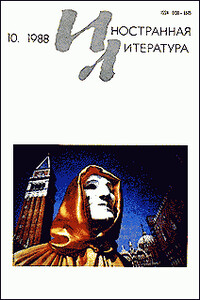Реквием по живущему | страница 6
Тогда оно и родилось — Мужчина-мальчик. И тогда же им, нашим, надо было вычислять да додумывать. И как-то разом вычислялось, что понадобилось ему сперва осиротеть, а затем переждать с полгода, пока двоюродный дед и дяди не сделаются конокрадами и не обзаведутся резвейшим из богатств, чтобы потом оседлать его, это богатство, и оседлать удачу, и бежать с ними за перевал — туда, где у преследователей и без того уже будут кровники; и вычислилось тоже, что еще ему, мальчишке, понадобилось красть самому (одного из пяти) и скакать на нем к брошенным могилам, чтобы пойматься там и затем три дня ожидать смерти; а после ему понадобилось вернуться и обменять чуть не весь урожай со своей земли на незаряженное ружье, каре да несколько циновок. И теперь уже оставалось шесть дней, которые никак не вычислялись, и посему их надо было додумывать.
И старики додумывали про ружье и огонь в очаге, ибо просто спросить никто из них не решался, да они и не могли, ведь каждый из них лет на пятьдесят был старше и в столько же раз опытней. Он-то им и мешал — опыт, потому как происшедшее в него не вмещалось. Но новое имя — то самое, Мужчина-мальчик,— уже родилось, уже прозвучало. И тогда кто-то из них — может, Ханджери, может, дед мой, а может, кто другой сообразил, что можно спокойно его поделить надвое и на время забыть про мальчика, чтобы додумывать теперь как бы за мужчину, тем более что он — мальчик, мужчина, загадка,— каждый день исправно вступал на нихас и садился на скамью с ними рядом и сидел с таким видом, что никому и в голову не приходило смеяться, шутить или возражать. Да. Так вот. Садился на правах хозяина не хадзара и не участка земли, но целого дома, целой фамилии, единственным представителем которой теперь являлся, но шесть дней до того все же чего-то ждал, что-то делал, прежде чем зажечь огонь в очаге, подвязать заместо кинжала нож к пояску и взойти сюда, на нихас. И тогда вспомнилось про могилы и додумалось про ружье, а чтобы проверить, послали к Синей тропе, и когда проверили, оно, додуманное, подтвердилось, потому что следы действительно были, а травы ощипано ровно столько, что хватило бы коню — любому, даже лучшему в ущелье — на целую ночь. А как додумалось и подтвердилось, оставалось лишь все другое к нему приладить, а это уж было проще простого. И теперь уже вычислилось, что ему понадобилось не только осиротеть, не только бежать с ворами и не только украсть самому, а потом не только быть приговоренным к мести, не только ее избежать, не только вернуться. Ему понадобилось еще ждать шесть ночей на темном кладбище с незаряженным ружьем, когда кто-то из них, воров, придет за ним и поверит в то, что ружье заряжено, и не сможет уговорить, и уйдет уже навсегда, ни с чем, крадучись, на рассвете, проиграв и смирившись. И лишь теперь он — мальчишка, мужчина, тайна — узаконит свое одиночество и на правах хозяина зажжет огонь в угасшем очаге, и нацепит на пояс нож вместо кинжала, и заставит стариков увидеть дым, признать этот дым и подняться себе навстречу. А заодно вычислялось, что восьмая часть с урожая — не последняя сделка, им заключенная, и, следовательно, не последний куш, что может сорвать мой дед. И выходило, что в свои десять — или сколько там — лет, пусть лет уже больше мужских, чем детских, он обзавелся хозяйством, куда как солидным, одним-единственным, единоличным и единоуправным хозяйством во всем ауле, будто кража была ему только на руку, будто одиночество лишь помогло. И выходило также, что одна восьмая — гораздо больше того, что намечалось для него изначально и лишь неделю назад никем еще не вычислялось, а теперь вот вычислилось само собой: старик, двое здоровых мужчин и еще один, больной, их брат (запеленатое в черкеску сало, человек-утроба с прожорливостью кабана-трехлетка), да их дети, да жены, не считая афсин и тех, кто еще не родился. И выходило, что семья наша, выиграв много, но куда меньше его самого, к тому же еще и проиграла. «Он нанял нас,— говорил мне дед, устало глядя на соседскую ограду, и солнце тихо грело его сухие плечи и застывало вязким в глазах.— Облагодетельствовал, но и нанял. Он кинул милостыню и потребовал за нее кормить свое одиночество. Он сделал из нас батраков».