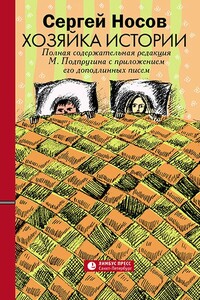Реквием по живущему | страница 48
И смирения того хватило еще на два дня, и двух этих дней хватило Ханджери на то, чтобы собрать ничтожный остаток сил своих и в последний раз Собраться поутру на полудохлую, разодетую в алое кобылу и пустить ее по сжалившейся наконец над немощью его дороге и умереть в полутора верстах от дома, скатившись кубарем в густую дорожную пыль, еще прибитую к земле росистой коркой влаги. Но только ждать заката нашим не пришлось: к полудню на повороте они их увидали: сперва знакомую кобылу, потом гнедого жеребца и то, что на нем сидело, потом еще одну кобылу, но впряженную в повозку, потом и саму повозку (сначала они заметили хомут и колеса, но после пригляделись и пораскрывали рты, а после поняли, что — да, повозка, хоть такой и не бывает, однако вот ведь — есть!), потом седока и поклажу, потом узнали в поклаже испачканное белое, но так и не узнали седока, потом поднялись и приказали младшим спешить в хадзар покойника, так что когда те подобрались к нихасу, их встретили стоя с опущенными головами и взорвавшимся по улице женским плачем. И, говорил отец, лица у тех, у пришельцев, были настолько бледны и сонливы, что будить их дюже назойливыми расспросами никто не решился, тем более что отвечали они русскими словами, а выходило как-то вовсе уж непонятно и гладко, словно языки у них были из воска вылеплены. А тут еще вдруг небо заволокло и ветер поднялся, да ты о нем слыхал небось, говорил мне отец, о ветре том позднее слепой Сослан песню сложил, вспомнил? Ну вот, как ни крепились наши, а ветер их все ж таки с улицы сдул, опалив глотки горячим прелым воздухом и испугав порядком: такого суховея в этих краях отродясь не бывало, как не бывало в нашем небе и коричневых туч, из которых ни одна в тот день не проронила ни слезинки и ни одна не треснула грозой. И, конечно, дурное то знаменье наши сперва за скорбь богов приняли,— ведь Ханджери их свято почитал и исправно приносил им жертвы, щедро деля с ними по праздникам скудные свои припасы. А потому постарались не заметить и страха в глазах Барысби — не страха даже, поджилки-то, почитай, у всех тряслись,— скорее ужаса, стынущего серым пеплом в жарких зрачках. По правде, ветер им и времени не дал, чтобы все подряд подмечать да в уме прикидывать, что бы это значило.
Вихрь и тех двоих вмиг разбудил, а с одного — того, что сидел верхом и этак вяло во рту табак пожевывал — шляпу содрал и понес по дороге к реке. И тогда наконец они спешились, хотя могли бы и раньше сообразить, что неловко гостям на хозяев сверху вниз глядеть, и бойко так, голосисто заговорили меж собой, а до того лишь лениво следили за нашими, труда не давая себе проснуться, всё больше молчали и даже не приглядывались. И дядя твой, говорил отец, принял у них поводья и затащил коней к нам во двор, и там мы их распрягли, все скопом, вместе с сыновьями Ахшара и внуком Дахцыко, только от него проку мало было, потому как кобыла, едва отцепили повозку, угодила ему копытом прямо в бедро, так что, можно сказать, он первый от них пострадал и хромал потом целый месяц, ругаясь от боли сквозь зубы и странно поводя плечом. Ногу-то он залечил, а вот привычка плечом елозить сохранилась, будто чьи невидимые пальцы покою ему не дают и всё норовят покрепче в него ухватиться.