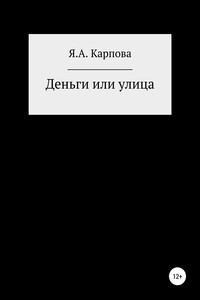Реквием по живущему | страница 38
«Это он прислал тебя?» И я, конечно, понял, что это вопрос, и, конечно, понял, что ко мне, но разрази меня гром, если я понял, в какой такой точке он стал пилить. И я молчал столько, сколько выдержал, но вовсе не придумал, чего ему нужно, а потому снова кивнул, ибо ответить отрицательно показалось неприличным, казалось неправильным, опрометчивым, и могло — вот что казалось! — разрушить с таким трудом лепившийся разговор. «Да,— сказал я.— Да,— мой отец». И теперь получалось, что прилично и вежливо, но и что правда — тоже. «Он не может быть тебе отцом, ведь он почти мальчишка». И я подумал: вот оно что. Вот он о ком. И подумал: для тебя мальчишка, а для нас, похоже, никогда им и не был. И оставалось еще придумать, что сказать ему вслух — озадаченному хозяину лавки, хозяину картины, хозяину нашего будущего — так, чтобы не запнулся разговор и чтобы легче было потом не замечать его чужого голоса, трогающего наши слова.
И я сказал: «Он сосед мой. Но то — отец прислал. Хочет дело тебе предложить, а картина ни при чем. Просто удивился я, до чего все настоящее... А так, кто не знает его, для тех — мальчишка...» И теперь мне вроде как полегчало, потому что его пора настала мучиться тем, что бы такое придумать в ответ, и уже ему, а не мне, помогали пальцы, блуждающие в ящике с утварью, а когда помогли и остановились, он сказал: «Я ведь могу отказаться. Что тогда?» — «Тогда — твой помощник. Не беда, что языка не знает. Ему и не надо знать». И он спросил: «Вот как?» И я ответил: «Да. Главное — всем выгода. И тем, кто в ауле — тоже». А он усмехнулся и повторил: «Вот как?» Потом повернулся к тому, со стекляшками, и что-то быстро и длинно говорил ему на остром их языке, а тот все поддакивал и гаденько так хихикал. И я, глядя на них, впивался ладонями в ножны, передавая им с влажным теплом свою злость, и, заперев ее там, в кинжале и ножнах, изо всех сил не пускал наружу, а те, болтуны, ее даже не замечали, и будто не замечали меня, это совсем уж сбивало с толку, так что не пускать злость наружу через минуту стало мне проще, а им стало проще спасать свои жизни, за которые они даже не беспокоились, весело перебрасываясь хлопьями беззаботного смеха и, казалось, вовсе не помышляя нанести обиду. И когда кончили, злости осталась лишь малость, чуть-чуть, и я стер эту малость полой черкески с рукояти и ножен.
«Послушай,— сказал он.— Все это очень забавно. Сперва ты едешь двое суток по горной дороге сюда, чтобы пригласить меня в свой дом, потом замечаешь эту картину и забываешь обо всем остальном, потом, завидев меня, вспоминаешь, для чего приехал, но тут же соглашаешься поменять себе гостя, едва я уклоняюсь от приглашения... Забавно! Скажи, а что ты сделаешь, если откажется и он, мой помощник? Пригласишь любого из них?» Тут он показывает на толпу покупателей, которые уже, по сути, перестали ими быть и превратились в слушателей да наблюдателей, открыв лица любопытству, испортив им и свои лица, и наш разговор.