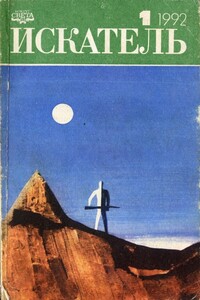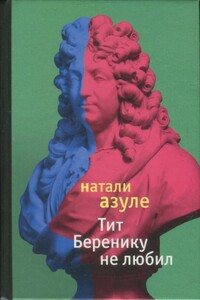Избранное | страница 2
На следующее утро я проводил друга до конторы; мы шли медленно и говорили мало; в воображении я видел нас обоих в черных сюртуках и черных цилиндрах, шествующими следом за черной каретой, запряженной парой лошадей в черных попонах, а в гробу лежал этот день его жизни, и мы его хоронили. Мой друг — кандидат в нотариусы.
У Вильской Переправы я не мог сдержать вздох восхищения: ничто в природе не сравнится с широкой, вольготно текущей рекой, с этой могучей, неодолимой силой, творящей в чудесном покое действо свое. И эту возвышенную силу всячески используют себе на потребу людишки.
Я постучал в дверь одинокого домика возле дамбы и спросил, не нарисовать ли им портрет, но семья сидела за обеденным столом, а жующих мало волнует искусство — нужно быть весьма удачливым художником, чтобы потягаться с прожаренным бифштексом. Чтобы бродить по дворам, как разносчик, нужно запастись мужеством и не поддаваться унынию, когда тебя вновь и вновь станет мучить вопрос: человек ли ты тоже, как все люди?
За Арнемом ко мне примкнул один безработный; он живет в Лимбурге и приехал сегодня на велосипеде из Хенгело. Он излил передо мной свое разочарование, а что на это скажешь? Нужно надеяться на лучшее. Но я-то, напротив, обожаю быть без работы. Ничего не делать — сколько поколений мечтало об этом! Ни в одной религии праведники на небесах не трудятся, а по христианскому вероучению первоначальная идея как раз в том и заключалась, чтобы люди в Эдеме жили без всяких трудов, собирая плоды в райских кущах. Но я сознаю, что эта концепция годится не для всех и каждого, а посему предпочитаю помалкивать.
К счастью, мне скоро повезло, и я очутился в роскошном лимузине рядом с доктором, на минуту прервавшим из-за меня свой смертельный вояж. На участке Арнем — Неймеген раскрывается один из парадоксов человеческой натуры: лучше висеть на волоске от аварии, чем дожидаться следующего парома.
Доктор хотел подвезти меня до Ситтарда, но в Неймегене я знавал один милый домик, где и решил переночевать.
Новый день начался с резвой сценки bellum omnium contra omnes,[1] исполненной целым взводом детворы. Здесь это повседневный репертуар, ибо в доме сем властвует принцип здорового воспитания: пусть дети сколько хотят дерутся, тогда они по крайней мере не мешают. Мне становилось все труднее блюсти нейтралитет, и я быстренько двинулся в путь. Было воскресенье. Воскресным утром городская улица точно переводит дух, народу не видно — кто спит, кто в церкви, так что я бодро прошагал сквозь утро, которое словно принадлежало мне одному, в сторону Пласмолен — Водяной мельницы. Там поселилась колония людей, большей частью художников, каждый из которых обитает в собственном мире грез и чувствует себя островком посреди океана техники и стяжательства, хотя сами острова тоже приходят иногда в столкновение. Этим людям не кажется блажью, если кто-то живет, как ему заблагорассудится, потому что и они делают то же самое; для родственных душ они обладают магнетической силой. Я сейчас же отправился в их компании на прогулку по осеннему лесу в сторону горы Св. Иоанна. Издали доносился звук рога. «Да, это наш музыкант, он здесь уже два года и каждый день играет одни и те же песенки. Давайте заглянем к нему». В сопровождении все нарастающего трубного гласа мы вышли на миниатюрное плато, с тыльной стороны огражденное лесом, с парадной — обрамляемое великолепной панорамой долины Мааса, и очутились перед кругленьким приземистым человечком в котелке. На плато стоял жилой фургон по крайней мере столь же примечательного вида, как и жилая повозка Пика Винегра из «Приключений нотариуса», только вместо восковых фигур он был набит музыкальными инструментами. Над окошками висела гирлянда рогов и рожков, расположенных по ранжиру, много места занимала фисгармония, стояли треугольники и барабаны, с потолка свисали скрипки, а над крылечком торчал огромный, вытянутой формы репродуктор, очевидно служивший для того, чтобы разносить музыку во все концы Маасской долины. У самого края плато росло дерево, и на нем, метрах в двух от земли, была укреплена сколоченная из досок площадка как раз для одного музыканта, но зато перед нею простирался концертный зал, достигающий самого горизонта, в этом зале свободно расселся бы весь нидерландский народ. Такой идеальный зал требовал, однако, переворота в акустике и изобретения новых, невиданных по мощи инструментов, чему и посвящал все свое время этот человек.