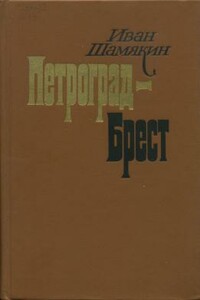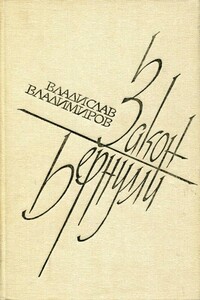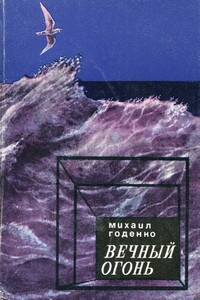Зенит | страница 56
Дом, в общем, не изгажен. Но удивили нас разбросанные в обеих комнатах бумаги — на полу, на топчанах, на столе, на подоконниках. Зачем пожарникам или солдатам такие бланки? Чему учет они вели?
Мы вынесли лишние топчаны, собрали бумаги. Куда их? Ясно, в грубку. Большая голландка стояла посреди дома, так что обогревала две комнаты. Грубка дала основание Колбенко предположить, что дом строился не финнами — русскими. И был он обычной хатой с русской печью в переднем помещении. Но печь выбросили. А грубка осталась, потому и топится она из той, другой, спальной, комнаты. Строили бы дом финны, они такой непрактичности не допустили бы.
Снова-таки мелочь, как с матрасами, но мне догадка его пришлась по сердцу — наш дом и жили в нем наши люди. Может, Константин Афанасьевич потому и доволен, что мы получили такую хату?
Но все же ему, как и мне, захотелось вычистить, вымыть чужой вражий дух.
— А кто б нам тут хорошенько вымыл?
Мы не белоручки, но мыть пол офицерам в присутствии рядовых, снующих вокруг, не то что не к лицу, а просто не позволено.
— Из штабного взвода не выпросишь. Муравьев кряхтит, что мало людей. Паровозник устраивается, точно думает простоять здесь до конца войны.
— У Данилова — подсказал я.
По тому, как Колбенко смачно вытер губы, вижу: угадал мою тайную надежду.
— Разумный ты парень, Павел. Только лопух. Беги звони цыгану.
Связисты все в разгоне. У аппаратов на командном пункте — машинистка штаба Женя Игнатьева. Странная девушка. Нет, скорее, не она странная — мое отношение к ней.
Женя перенесла ленинградскую блокаду, с тяжелой дистрофией ее вывезли по ледяной дороге в конце первой военной зимы. Лечили в Вологде. А в сорок третьем она попросилась в армию и приехала к нам с новым пополнением. Девушка со средним образованием, с умением печатать на машинке была находкой для штаба. А она рвалась на батарею, ей хотелось стрелять. Блокада все же подорвала ее здоровье: вначале раза два она теряла сознание, один раз, когда Кузаев накричал на нее. Хотели комиссовать. Как она просилась, чтобы оставили в армии! Жаль стало девушку, почти все офицеры высказались за нее. Но потом почти никто не обращался к ней по-военному, по-уставному: «Боец Игнатьева». Все говорили ей «Женя» и просили: «Пожалуйста, напечатайте вот это». А она стеснялась такого обращения, и часто мне казалось, что ей хотелось заплакать от этого, как от обиды. Но слез ее никто не видел. Как-то я сказал ей об этом. Она ответила понуро: «А они высохли у меня там, в Ленинграде».