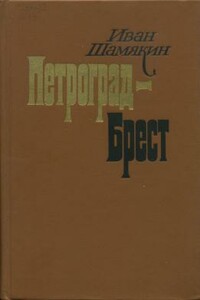Зенит | страница 155
— Слушай! Что твой «Смерш» имеет к Иванистовой? Нашел шпионку! Дурак! Ему нечего делать? Ему скучно от ничегонеделанья? Так пусть попросится на фронт или туда, где осталась сволочь недобитая…
Зубров — неглупый человек. Но говорить с людьми не умеет. Бывший прокурор, он не только допрос — обычную беседу ведет по-прокурорски. Но никто ему об этом не отваживается сказать. Я представил, как он мог говорить с Ликой, и понял, что она подумала обо мне, почему смяла бумажку. Но не мог же Колбенко передать ему мое возмущение ее просьбой — дать фамилии финнов. Чего же он прицепился к ней? В чем причина? Училась в Хельсинки?
— Появится еще раз — буду говорить с ним я. А я — цыган! Я — цыган! Я из камня высекаю огонь! Конечно, будет плохо мне… Но предупреди Кузаева, Тужникова, парторга… Чтобы знали наперед.
Но думал я не о Зуброве. Ошеломило другое — моя догадка. Смотрел на возбужденного Данилова, в его глаза, сыпавшие искры, и все больше убеждался в правильности своего предположения. Широкая физиономия моя расплылась от улыбки.
— Саша! Ты влюбился, — вырвалось у меня.
И тут же пожалел о сказанном.
Данилов не побелел — он почернел до состояния того Отелло, которого я видел до войны в исполнении Папазяна. Схватился за кобуру.
— Пошел к чертовой матери! Безмозглый болван! А то я отведу тебя на КП с конвоиром… За оскорбление старшего по званию.
— Дурак ты, Саша, дурак. Радуйся, а не злись, — сказал я, выходя из барака, где устроился командир батареи.
В бессонные ночи я писал письмо Лидиной матери. И отцу. И сестре. Я плакал от обращения «дорогая мама». И тут же зачеркивал его. Какая мама? Чья? Имею ли я право называть ее мамой? Возможно, я шептал слова или, может, повторял, когда проваливался в сон. Однажды ночью Константин Афанасьевич, повернувшись — и ему не спалось, — сказал:
— Спи. Напишу я.
— Нет, я сам. Пожалуйста, я сам.
— Сам так сам. Но не тяни, не жги сердце. Будь солдатом. Война есть война. А если бы ты был командиром пехотной роты? Вообрази его участь. Ежедневно приходится писать… в наступлении…
Кто-то из них — он, парторг или Женя — сказал о письме Тужникову. Замполит прочитал письмо при мне, все понял, ни одно слово не попросил объяснить. Какое-то время сидел в задумчивости. На лице майора отразилась глубокая боль. Он сказал неожиданно очень по-человечески:
— Что поделаешь, мой боевой товарищ. У меня погибли два брата. И у обоих дети. Я высылаю им аттестаты…
Едва заглушил крик боли и… стыда. Как же мы не знали, что у заместителя по политчасти погибли братья? Называется, боевые товарищи. Впервые услышал. Знает ли хотя бы командир? Мы считали Тужникова педантом, формалистом, поверхностным крикуном, умеющим создать помпу, показать себя. Его недолюбливали и командиры за частые проверки, за накачки, за придирки к тому, в чем он не разбирался, — например, в наладке СОН, первые установки часто разлаживались, и Тужников распекал командиров, чего никогда не делал классный специалист, ученый электрик Шаховский, капитан ни на кого не повысил голос, лишь иногда мог поиронизировать.