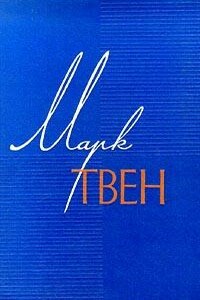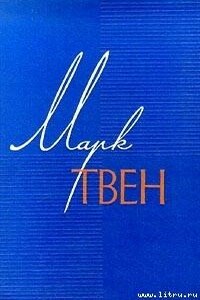Серые пятна истории | страница 36
Однажды приехала к нему с челобитной делегация пролетарских писателей во главе с детским поэтом Сергеем Михалковым. Неохотно принял их Алексей Максимович, тем более после сытного обеда настроение у него было благодушное и плакать вовсе не хотелось. А нужно было, чтобы не нарушать имидж. Но поглядел он в их глаза, в которых была написана собачья преданность, и, сам того не желая, искренне прослезился.
— С чем пожаловали, братцы? — спрашивает, а сам платочком утирается и обвислые усы пытается торчком поставить — ведь раньше они были пышные и молодецкие, но от слёз совсем поредели и опустились.
— Благослови нас, батюшка, на написание нового государственного гимна, — молвит Михалков, — а то правительство требует от нас, и мы не знаем, с чего начать.
— А сам-то ты кто таков, что за такой непосильный простому смертному труд взяться хочешь?
— Поэт я детский, стишки пишу для советских деток. Вот про дядю Стёпу милиционера написал…
— Для советских деток? — переспросил Горький и залился горькими слезами. — Жалко мне их, горемычных…
Поплакал он вволю, а писатели стоят молча, с ноги на ногу переминаются, боятся оторвать человека от такого благородного занятия. Только по сторонам глазами зыркают — чем бы поживиться, пока хозяин не видит.
— А что ты ещё можешь? — спрашивает Горький.
— Могу с вождями дружбу водить. С теми, что были, что есть и что будут.
— Врёшь поди? — усомнился Алексей Максимович. — Это же такая сложная дипломатия — для всех хорошим быть и со всем, что они скажут, соглашаться! Даже у меня, великого пролетарского писателя, такое не всегда получается.
— А я могу, — сказал Михалков, — только дайте наводку, как этот злосчастный гимн написать, но так, чтобы при случае его легко можно было переделывать в русле меняющейся политики партии и правительства…
— Это тебе, брат, не про милиционеров сочинять, — задумался Горький, — но так и быть, подскажу. Возьми-ка ты наш старый гимн «Боже, царя храни…» и поменяй одно лишь словечко «царя» на «Владимира Ильича». Ну, и подрифмуй, конечно. Такое прокатит…
— Не-е, не прокатит. Во-первых, сейчас директива есть, что бога нет, а во-вторых, и Владимира Ильича тоже нет — умер наш благодетель ещё в 1924 году.
— Да ты что?! — изумился Горький. — А я и не знал… Твердили же, что он и его дело бессмертые! — И залился новыми слёзами. — Видно, и здесь наврали…
Снова подождали писатели, пока тот проплачется.
— Сейчас Сталин в стране рулит, — вздохнул Михалков.