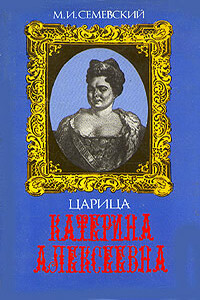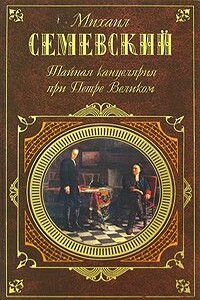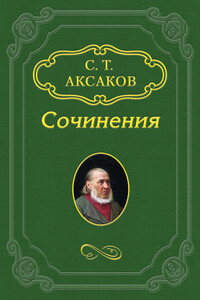Прогулка в Тригорское | страница 28
Восторг, вызванный в Языкове пребыванием его в Тригорском (куда, кстати заметить, ему после 1826 года не удалось ни разу во всю жизнь заглянуть) — для нас, по крайней мере, совершенно понятен. Он объясняется следующими причинами: радушием хозяек, красотой, умом и грацией ее дочерей, живописностью местности, тесною дружбой, соединявшей Языкова с молодым хозяином, наконец счастьем быть с Пушкиным, которого боготворила в то время вся грамотная Россия. Добавьте сюда то обстоятельство, что Языков был в то время в самой цветущей поре восприимчивой, впечатлительной молодости, и весь лиризм, вызванный в нем пребыванием его в Тригорском, вполне объяснится. «Обитатели Тригорского, — замечает в одном из писем своих Языков[120],- ошибаются, думая, что я притворялся, когда воспевал часы, мною там проведенные: как чист и ясен день — чиста душа моя! Я вопрошал совесть мою, внимал ответам ее, и не нахожу во всей моей жизни ничего подобного красотою нравственною и физическою, ничего приятнейшего и достойнейшего сиять золотыми буквами на доске памяти моего сердца, нежели лето 1826 года[121]! Кланяйся и свидетельствуй мое почтение всему миру Тригорскому!» [122]
Искренность этих задушевных слов едва ли может подлежать сомнению.
В первых числах августа 1826 года молодые друзья наши, Вульф и Языков, уехали в Дерпт.
Отсюда 19 августа 1826 года Языков уже шлет послание к Пушкину. Послание это мы печатаем впервые [123]:
Пушкин продолжал обычную свою жизнь; для него по-прежнему был славный труд в Михайловском, и сладкий отдых в Тригорском. Со дня на день он ждал вести об освобождении его из-под полицейского и духовного надзора