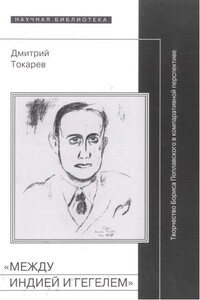Пути и вехи: русское литературоведение в двадцатом веке | страница 35
Такой взгляд на искусство и, в частности, на литературу, помимо того, что был в своё время чем-то принципиально новым, способствовал, на протяжении короткого периода самого начала двадцатого века, выработке совершенно особого мироощущения, которое, с одной стороны, имело своим результатом появление нового типа творцов искусства и его ценителей, которые отличались крайней преданностью именно эстетическому творчеству и его произведениям, высоко развитым воображением, развитой чувствительностью и отзывчивостью, а с другой стороны, вызвало к жизни эстетические произведения нового типа, которые могли воздействовать на читателя, зрителя или слушателя исключительно благодаря самим себе, вне всякого контекста, социального, национального и проч.
Незачем повторять, что тип русского интеллигента был наиболее восприимчив к этой новой литературе. Именно русский интеллигент с его человеческой отзывчивостью и внутренним благородством оказался особенно чувствителен и восприимчив к литературе как хранительнице всего прекрасного и возвышенного. Более того, именно такая литература способствовала становлению такого человеческого типа. Сама же эта литература несла в себе заряд особой интеллигентности в том специальном смысле слова чего-то, отмеченного печатью внутренней благородности, принципиальности и одновременно понимания и проницательности.
Итак, возвращаясь к эпопее становления и восприятия новой философской критики русской литературы, скажем, что в этом временном моменте, в начале девяностых годов XIX века, описанный нами облик литературы и искусства характеризует не только русскую культуру, но, в значительной степени, все сколь-нибудь заметные культурные традиции Европы и Америки. Правда, в одних местах упор на самодостаточность литературы и искусства сильнее, в других — слабее, в третьих — почти не ощущается. Но так или иначе, конец девятнадцатого века всюду ознаменовывается появлением произведений, замечательных именно своей внутренней самодостаточностью, замечательных тем, что они превосходят границы локальных перипетий, локальных пристрастий, локальных ритмов — а часто именно благодаря успеху в развитии этого специфического местного направления. Таковы в литературе немецкого языка Стефан Георге, Райнер Мария Рильке, Гуго фон Гофмансталь, Артур Шницлер, в литературе французской — Верлен, Рембо и Малларме, Клодель и Марсель Пруст, а в литературе английского языка Уильям Батлер Иейтс, Джеймс Джойс, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд. В русской литературе — это символисты и реалисты, модернисты и традиционалисты. Здесь с самого начала между критикой народнического плана и критикой эстетической ведётся неистовая война. Оба лагеря атакуют то, что им кажется наиболее реакционным, нелепым и отвратительным в противоположном лагере. Для реалистов и народников — это «уродство» изображаемого в произведениях «декадентов», «психические извращения» и «вырождение» персонажей, нарочитая вычурность языка, противоречащего элементарному здравому смыслу. Для эстетической критики — это провинциальность и узость народнической литературы, грубость и безобразие стиля народнической критики.