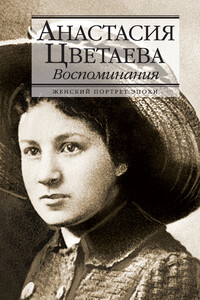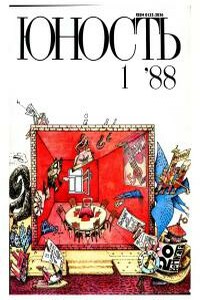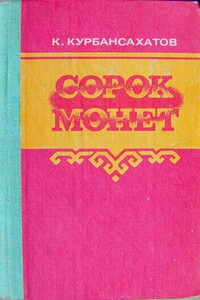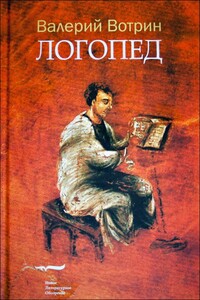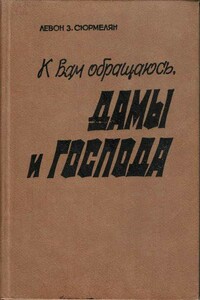AMOR | страница 90
В комнате Глеба часто и при мне пели романсы и песни, и меж них — песню о Стеньке Разине, утопившем княжну. Мне — не знаю, но тонко чувствую, почему — каждый раз становилось одиноко, оскорбительно, горько, меня заливала тоска и негодование. Я слушала, опустив голову над чашкой чая, весёлые мужские голоса, певшие так беспечно, так юно, так пошло–юно, как мне казалось, гибель персидской княжны от руки атамана Разина — и мне мнилось, что они сами таковы, все до единого — беспечны, грубы, через край налиты своим мужским правом, гордостью, спесью, каждый из них бросит в воду "княжну", как только друзья станут на его дороге с насмешкой.
О тонкие ручки и ножки её, узорные туфельки, о тоненький звон запястьев и ожерелий, "о ночь, о глаза", все это было залито водой, превратилось в труп — из‑за разбойников, из‑за мужской спеси — о гадость!..
Они пели. И мне казалось тогда, что это меня они топят, во мне все кипело и угасало, мне хотелось встать и сказать им, что я их презираю, но что‑то горечью держало сжатым горло, в котором уже стоял и душил меня клубок.
…Глеб приходил, и часто вдвоём со своим другом, в час, в два утра, после игры на биллиарде. Он уходил, не говоря куда, не ответил бы на вопрос, когда он вернётся, — но я не задавала его. Мы почти никогда не бывали наедине. И, запершись в своей комнате, рядом с детской, где няня укачивала Сережу, я часами писала дневник, подводя итог своей жизни, которая рвалась на глазах.
Я не могла позабыть того Глеба, входившего почтительно в мою комнату, два года перед тем, с которым у меня до полуночи шли разговоры, после того, как я мчалась с ним на норвежских коньках! Зачем это было…
ГЛАВА 2
МОРЕК И МИРОНОВ
Прошло три года. Какие три года!.. Разве их рассказать? Я ещё долго мучилась с Глебом. Расстались… Мне двадцать лет. Мориц, вы умны. И, может быть — вы поймете.
Один знакомый, не влюблённый, слава Богу! Захотел привести ко мне друга, — "палата ума, воспитанный, сдержанный в чувствах". Но случилось, что в назначенный день знакомый был телеграммой вызван, — и — попросив разрешения по телефону, тот — "палата ума" — пришел один. Была прелесть в незнакомом скромном человеке, с тенью застенчивости в дружеской улыбке, переступившем порог. С первого же вечера, далеко за полночь продлившегося, — дружба. Когда он ушел, я была не одинока на свете, но свободна более, чем до того: этот человек, если и полюбит меня, не наложит руку ни на какое свойство, не внесёт тяжести в мои дни. И мы — видимся.