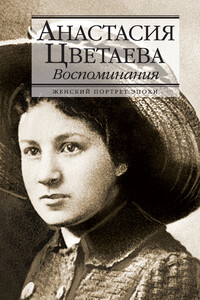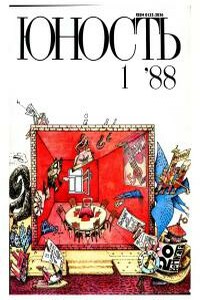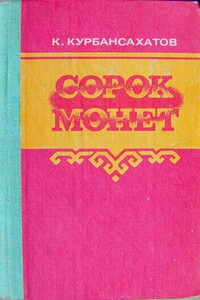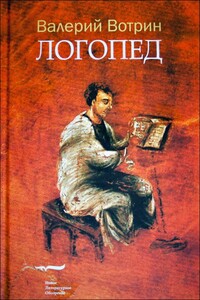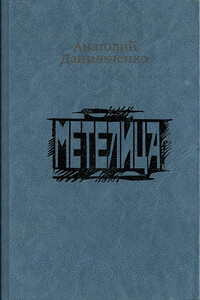AMOR | страница 48
— А какая у деда была наружность? — спросила, сияя, как дед от жениных шляп, Ника.
— Дед? Коренастый, среднего роста, элегантный. Бакенбарды. С проседью. Лысый.
— А в бабушку он влюбился — за красоту?
— По–моему, он не влюбился. Как‑то по рассеянности, скорее… — сказал, гладя прыгнувшего к нему кота, тоже рассеянно, рассказчик. — Да, так про бронзу. Это была коллекция столь же бездарная, сколь заботливая; натуралистические собаки, лошади, негритята, предлагающие обезьяне ананас, — знаете этот стиль? Или — такса в пенсне. И благодаря столь дурно организованному его вкусу, в его коллекцию не попала ни одна приличная бронза. Но среди этих сюжетов была статуэтка — танцовщица, возбуждавшая негодование и омерзение моей благочестивой бабушки: это была негритянка в голубой юбочке, стоявшая на одной ножке, приподняв другую в некоем пируэте; мастер, делавший её, предусмотрел следующую фривольную подробность: она обладала способностью поднимать эту ножку, и притом чрезвычайно высоко, обнаруживая голубое трико. И вот дед, имевший склонность дразнить бабушку, садился за письменный стол, ставил перед собой эту фривольную негритянку и концом карандаша приподнимал и опускал её ножку. Бабушка разгневанно ходила по комнате и крестилась. Оставшись одна с сим механизмом, она старалась — и притом немного гадливо — убрать с глаз этот срам; она ставила виновницу греха в дальний угол и закладывала её хламом, ключами, кусками от мраморных каминов, которые откалывались на углах и никогда не приделывались, но тщательно хранились; ручками от пакетов, выгнутыми, как скрипичный ключ, проволочками, запутавшимися в ворохах верёвочек. И оттуда статуэтку неизменно извлекал дед.
— И был ещё один способ мучить бабушку, — сказал Евгений Евгеньевич, ему уже хотелось чертить, углубиться в подробности изобретения, но было жалко оставить чем‑то жалобную сегодня Нику, — дед купил соловья…
В эту минуту его прервали. И Нике пришлось вынырнуть из рассказа в жизнь.
После целого дня за арифмометром, не разгибаясь по десять часов, — хоть и любя этот труд, но устав от напряженного взглядывания, — даже облегчением казалось порой, войдя в многолюдный барак, присматриваться к женской жизни, к другому типу усталости.
Несколько женщин, молодых, сидели возле деревенской старухи. Их, видимо, забавляли её рассказы.
— Мать, — спросила одна из них, — а ты‑то за что сидишь?
— За бабу! — отвечала старуха бойко. — Донесла на меня, наврала!