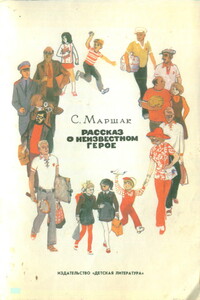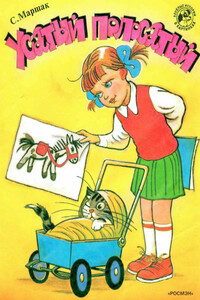Статьи и заметки о мастерстве | страница 40
— Великолепно поет, — негромко сказал Горький. — Такому, как он, и голоса не надо. Артист с головы до ног.
Алексей Максимович сказал это по-русски, но все окружающие как-то поняли его и приветливо ему заулыбались. Они оценили в нем замечательного слушателя.
А сам артист, кончив петь, направился прямо к столику, за которым сидел высокий усатый «форестьеро» — иностранец, — и сказал так, чтобы его слова слышал только тот, к кому они были обращены:
— Я пел сегодня для вас!
В одном из писем Леонид Андреев назвал Алексея Максимовича «аскетом».
Это и верно и неверно.
Горький знал цену благам жизни, радовался и солнечному дню, и пыланию костра, и пестрому таджикскому халату.
Он любил жизнь, но умел держать себя в узде и ограничивать свои желания и порывы.
Иной раз Алексея Максимовича могла растрогать до слез песня, встреча с детьми, веселый, полный неожиданностей спортивный парад на Красной площади. Часто в театре или на празднике он отворачивался от публики, чтобы скрыть слезы. Но многие из нас помнят, каким был Горький после похорон его единственного и очень любимого сына. Мы видели Алексея Максимовича чуть ли не на другой же день после тяжелой утраты, говорили с ним о повседневных делах и ни разу не слышали от него ни единого слова, в котором проявилась бы скорбь человека, потерявшего на старости лет сына.
Что же это было — глубокое потрясение, не дающее воли слезам, или суровая и застенчивая сдержанность?
Близкие люди знали, что Алексей Максимович умеет скрывать чувства, но зато долго и бережно хранит их в своей душе.
Тот же Леонид Андреев когда-то бросил Горькому в письме упрек:
«Ты никогда не позволял и не позволяешь быть с тобою откровенным».
Горький ответил ему сурово и резко:
«…Я думаю, что это неверно: лет с шестнадцати и по сей день я живу приемником чужих тайн и мыслей, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем: «здесь свалка мусора». Ох, сколько я знаю и как это трудно забыть.
Касаться же моей личной жизни я никогда и никому не позволял и не намерен позволить. Я — это я, никому нет дела до того, что у меня болит, если болит. Показывать миру свои царапины, чесать их публично и обливаться гноем, брызгать в глаза людям желчью своей, как это делают многие… — это гнусное занятие и вредное, конечно.
Мы все — умрем, мир — останется жить…»[2]
До конца своих дней Горький сохранил то мужественное отношение к себе и миру, которое он выразил в спокойных и простых словах: «Мы все — умрем, мир — останется жить».