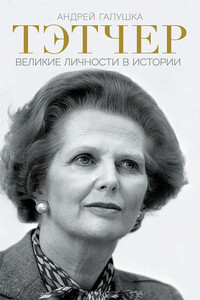Веревочная лестница | страница 41
Знал ли «певец Москвы» Петр Дмитриевич Боборыкин, что придуманный им еще в 60-е годы ХIХ века неологизм «интеллигенция» перейдет в другие языки на правах таких чисто русских слов, как «водка», «спутник», «перестройка»? И думал ли он, обозначая этим словом человека с «идеями» – литератора, профессора, чиновника, журналиста, – то есть «мыслящую, просвещенную, образованную часть общества», что споры о том, «нужна-не нужна», «плоха-хороша», «спасла-погубила» Россию интеллигенция (да и кто он такой – истинный интеллигент?), будут сотрясать Россию почти полтора века?
Сколько было сломано копий еще при советской власти, чтобы доказать, что интеллигенция есть только в России; в то время как у них, на Западе только интеллектуалы и профессионалы, а у нас – и «говорящая совесть», и «вина перед народом», и «благородное служение». Помните: «Для меня слесарь, тонко чувствующий Чайковского и Рафаэля, или крестьянин, никогда не выезжавший за околицу своей родной деревеньки, но с мудрым прищуром понимающий жизнь точнее, чем иной профессор с двумя верхними, более истинный интеллигент». Или потом: «Есть лица традиционно не производящих профессий. Есть люди с нравственными принципами, которые для них будут всегда дороже физиологических потребностей. Есть люди, которые чувствуют себя неважно, если они не думают о благе ближнего больше, чем о своем или своей семьи».
И где-то в промежутке появляются «полуобразованцы», «ответственность за подготовку кровавого Октября 17-го», споры о том, что можно и как было нужно, демонстративные выходы из интеллигенции, как из партии, либералы и радикалы, обидное словечко «совок», тут же нацепленное язвительным Александром Генисом на советского интеллигента (в его опозоренном варианте Васисуалия Лоханкина) и многое, многое другое.
Однако все это долго носило достаточно абстрактный, отвлеченный характер ничего не решающего, но берущего почему-то за душу спора о смысле жизни (или будущем России, или русском характере, или о том, как быть с евреями, как, впрочем, и о других очень интересных вещах), пока радостно поддержавшая демократические реформы интеллигенция не поняла окончательно, что ее, кажется, использовали, использовали и выбросили за борт жизни, и она реально не нужна в том то ли наступившем, то ли наступающем, то ли вот-вот наступящем на Россию рынке. Не нужна и не интересна никому. В том числе и себе. Ибо «жить духом», читать и спорить с упоением, ходить на все выставки и концерты, вдохновенно ругать бездарную, бессовестную советскую власть, которая платила унизительно низкие совковые зарплаты («Вы знаете, сколько получает врач в Бруклинской больнице для бедных?» – вопрос середины 70-х), было можно, но вот жить (как духовно, так и материально) на десятом году перестройки и на третьем году ельцинских реформ – нельзя, потому что не получается. Просто невозможно.