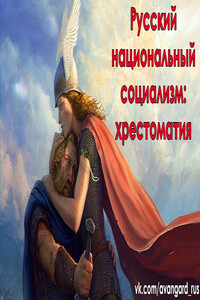Национальная доктрина | страница 46
Идея социал-демократии о «всеобщности», «всекратии», «всеправии» — вседозволенности всех — такая же порочная и крайняя, как вседозволенность «избранных». Всеми легко прикрываться — отвечать не надо. Равенство возможно, но оно всегда ограничено, как и демократия в своем максимуме — «большинством» определенного закрытого общества, нации. К этому реально можно стремиться. Нынешняя смешанная модель либерально-экономического социал-дарвинизма также неприемлема — своим индивидуалистическим эгоизмом успеха «немногих» она разрушает крупные сообщества, порабощает институт государства. Следовательно, надо исходить из принципа постепенного укрупнения интересов равноправия в соответствии с укрупнением социальных групп. Крупные сообщества — их интересы и есть «общие», а не «всех» и «каждого». Одинаковость структуры недостижима, а социал-демократический идеал рассчитан именно на тотально однородное общество. Но однородное в своей сущности и есть однородное — семья, клан, этнос, нация; банда, элита, коллектив, учреждение, корпорация, гражданство: однородное, но в то же время и разнородное. То есть обязательно нечто среднее между «каждым» и «всеми». «Золотую середину» предстоит найти. Социал-демократия пока что не обеспечила всеобщее равноправие и всеобщие возможности роста. Ее достижения — социальные гарантии в кризисных случаях жизнедеятельности личности и социальных групп, т. е. социал-демократия своей борьбой дала современному обществу такой общественный институт как «социальное государство» или «государство благосостояния». Но сделано это было на базе национальной экономики, от которой эти гарантии целиком зависят. А экономика эта в свою очередь зависит от очень многих факторов внешнего порядка — среды, геополитики, мировой экономики, войн, миграций и т. д.
11. Демократия и большинство
Демократия — один из самых разделенных идеологических феноменов. О нем написаны тома. И чем больше о ней написано, тем все менее понятной становится ее идеологическая направленность и принадлежность. Сама по себе идеологией демократия быть не может. Она — родовой признак той или иной идеологии, правой или левой.
Когда мы говорим, демократия требует или решает что-то, то это значит не более того, что большинство решает или требует что-то. Демократия ограничена большинством, она не может быть тотальной. Если кто-то требует свыше, то он требует просто собственной тирании, требует, чтобы все считались с его взглядами безоговорочно. Считались лишь с группой активистов, которые желают расширения демократии, но в реальности не могут этого обеспечить в данных масштабах, и поэтому начинают давить на демократическое общество сверх его демократических возможностей. Защита же интересов групп с демократических позиций противоречит демократии и этим позициям. Для всеобщей демократии и свободой личности не может быть групп: они не могут значить больше чем свобода личности и всеобщая демократия. Как бы группы не желали бы развиваться они должны считаться со всеми и каждым. Меньшинства ничего не могут значить, если ничего не значит большинство. Но большинство — это и есть основа демократии. Меньшинства требуют своего развития на основе того, что они как все, но их развитие противоречит, тому, чтобы быть как все. Они требуют, чтобы большинство не вмешивалось в их жизнь, но тем самым они сами вмешиваются в жизнь большинства. Тем самым подвергается сомнению и принцип демократии — решение принимает большинство. Недавнее ограничение референдумов по принципу того, что на них не могут обсуждаться вопросы, связанные с компетенцией государственных органов, яркое тому свидетельство. Проблема состоит в том, что их компетенция никоим образом не улучшает жизнь большинства, а работает только в русле собственных «компетентных» интересов. То есть абсолютно демократическими институтами и законными способами отменяются демократические требования и демократия как таковая. То есть это тупик демократии.