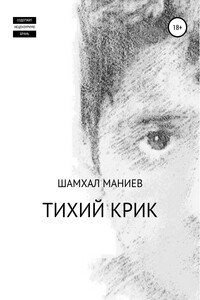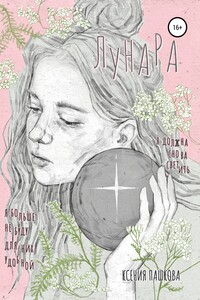Новый мир, 2013 № 03 | страница 222
[9]. Разумеется, это не могло не отразиться и на их языке, вернее,чужомязыке, к помощи которого они так часто прибегают. Наполненные холодной иронией, пространные циклы Сваровского или разрозненные фрагменты Ровинского призваны отразить опыт жителя глобализированного мира, пребывающего в вечном настоящем, где «превращение — это сцена, на которой происходит реальное действие, момент перехода (война, разрушение империи, старение, смерть)…»[10]. У Гольдина, для которого также важна данная проблематика, мы не увидим «критики языка», которая имеется, например, у Арсения Ровинского (или еще одного автора этого круга — Леонида Шваба). Если для Ровинского каждое слово должно быть отвоевано (у мертвой поэтической традиции, у медиа), то у Гольдина язык используется вполне инструментально: так пишутся статьи в энциклопедии. Поэт,без ведомакоторого пишутсяеготексты, дает полныйcarte blancheвывернутому наизнанку Знанию:
Сотрудники агентства по борьбе с особой жестокостью,
специалисты в разных костях,
застыли перед окаменелой костью,
изогнутой в двух плоскостях.
<…>
В центральном универмаге можно купить
еврейские зародыши в питательном растворе
и убить на любой стадии развития.
Тот же, кто передержит продукт до рождения,
обязан усыновить ребёнка и с этого момента
считается членом семьи еврея.
ищет защиты
маленький ребёнок в папе и маме
большой ребёнок в боге и храме
взрослый человек в будде и ламе
ом мани падме хум
бритва, вскрывающая человеческий ум
Любопытно присутствие последнего фрагмента, словно бы призванного «заговорить» поток медиа вирусов, чтобы «спасти» лирический субъект от информационной интоксикации, подталкивающей его к алогичному и практически неостановимому монологу. Думается, именно присутствие последнего, рифмованного фрагмента и выводит Гольдина из круга авторов, совмещающих, по словам Кирилла Корчагина, «оптику поэта» и «оптику исследователя»[11]. В отличие от названных Корчагиным Сергея Завьялова, Александра Скидана, Антона Очирова, Гольдин предпочитает отказаться от аналитического подхода. Ему ближе стратегия «просто поэта», в стихах которого поют соловьи, идеи, розы, научные системы и государственные теории. По сути, функция авторства тут — вовремя прерватьинформационныйпоток:
Всем остальным — сила и слава, мышцы и нервы,
золото, мясо, герои, перья, планеты,
пурпурный и золотой дождь,
а мне — пенной слюны
складка и бруцеллёз.
Своей работой Гольдин заостряет проблему существования поэтической субъективности в ситуации тотальной неопределенности. Как и Орфей из фильма Кокто, поэт стремится уловить в свои сети дивную музыку, но получается, что волна выкидывает на берег коммуникационные штампы и осколки (говорю безоценочно!). От романтической стратегии авторства остается лишь зуд письма, подталкивающий поэта к навязчивому (вос)производству смыслов. Но все-таки Гольдину не удается стать полноценным героем первого тома «Капитализма и шизофрении»: стремление рассказывать истории, «быть прочитанным и понятым» побеждает радикальность. Которая имеет место в творческой стратегии автора, чье имя неявно присутствует в сборнике Гольдина. Речь, разумеется, о Кирилле Медведеве и его книге «Тексты, изданные без ведома автора». Напомню, что этот сборник был составлен Глебом Моревым и вышел в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2005 году, то есть уже после знаменитого «Коммюнике», в котором Медведев отказывается от каких-либо публикаций, кроме как в книгах, «выпущенных своим трудом и за свои деньги» и «публикации на собственном сайте в Интернете»