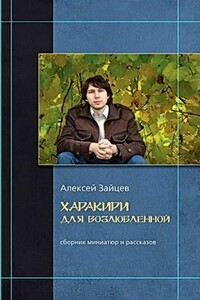Новый мир, 2013 № 03 | страница 172
Фетовский сборник заканчивается обзором выставки Фета в Доме Аксаковых в начале 90-х годов, написанным Г. Л. Медынцевой. На выставке этой я, помнится, побывал, разглядывал пожелтевшие фотографии.
По наводке Лиснянской я тогда там и презентовал «Число». Пришли Наташа с сыновьями и мамой (а общество-то собралось глуповатое). Совсем другие были тогда мальчики, не было у них нынешних насмешливо-выжидательных глаз богатых людей.
Медынцева упоминает воспоминания В. Кривича (сына Ин. Анненского): «Фрагмент их был подготовлен к печати в 1940 г. сотрудницей музеяДуниной(о ней ничего не удалось выяснить), но так и остался в машинописи».
Мир Вашему праху, безвестная Дунина! (От которой не уцелели даже инициалы.)
Фетовский сборник составил «профессор, доктор филологических наук Е. Н. Лебедев». Но выхода его в свет не дождался: помер в 97-м. В маленькоммемориив конце сборника тоже ныне уже покойный Вадим Кожинов (как паровоз, все время дымил «Примой» через видавший виды мундштук) написал про Лебедева, что «Евгений Николаевич жил напряженно и неосторожно», т. е., видимо,пил. Фраза лебедевской преамбулы к сборнику: «Афанасий Фет — это великое прошлое России изалог ее не менее великого будущего», очевидно, написана либо накануне запоя, либо сразу после него.
Запивал и сам Кожинов. В открывающей сборник его статье «Место творчества Фета в отечественной культуре» опечатка вполне по Фрейду: «Лишь сравнительно недавно поэзию Фета начали понимать по-иному, начали открывать в ней глубину и размах художественного смысла — вплоть до истинного „комизма”, проникновенного видения Вселенной в ее беспредельности» (вместокосмизма). По той же причине, видимо, не вычитал свою же статью…
У Тютчева: «Отрешенно-роковая интонация бесстрашного вещания вселенских истин». Громоздко, но точно сказано (ярославским некрасоведом Николаем Пайковым. «Феномен Некрасова», Ярославль, 2000).
Протоиерей Иоанн (Восторгов) в 1908 году (за 10 лет до мученической кончины от большевиков): «Он (Лев Толстой) „не может молчать” при виде казни преступников-революционеров… но он молчит, когда революционеры и убийцы… казнят самовольно сотни и тысячи невинных людей и заливают кровью лицо земли русской».
А вот уж тут прот. Иоанн явно переборщил, приписывая Толстому «зависть к чужой литературной славе… ненависть (!) к Достоевскому и Тургеневу». Ревность определенная, возможно (и даже конечно) была, не больше того.
30 марта