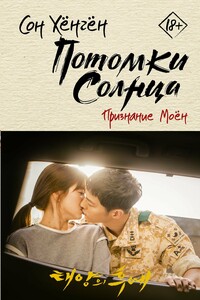Новый мир, 2012 № 06 | страница 144
2
В самом деле, Новый Завет не предлагает никаких моделей общественного устройства, не призывает объединиться для священной войны, вообще нигде не говорит об общем благе, об идеальном государстве. Сказать вслед за Павлом «ибо нет власти не от Бога» (Рим. 13: 1) — это значит сказать менее чем ничего, так как если взять буквальное понимание этой фразы, то апостол просто уравнивает свирепую тиранию цезарей и, скажем так, кроткое правление Нумы Помпилия или уравнивает самодержавную власть православного российского императора, демократическое Временное правительство и большевистскую «диктатуру пролетариата». То есть любая властьde facto— божественного происхождения. Во всяком случае, очевидно, что Павел не отрицает государство как таковое и считает, что порядок, обеспечивающий гражданскую безопасность, необходимо поддерживать. Но нигде в Новом Завете не говорится о том, как приобретать и как применять власть в государстве, то есть какова цель государства и какие у него могут быть средства. Христианам входить во власть было как бы противоестественно: первые члены Церкви совершенно спокойно себя чувствуют в роли маргиналов, в качестве одного из меньшинств и далеко не самой влиятельной общины империи. Их понимание «общего блага» в то время — это, пожалуй, победа веры над идолопоклонством, но это не более чем всеобщее обращение в христианство, то есть то же «личное благо», но в массовом масштабе. Между тем христиане с самого начала участвовали во всех институтах общества, просто потому что в Церковь приходили все — первоначально это были иудеи, но вскоре в ней начали преобладать греки, египтяне, сирийцы, римляне... Из истории мученичества мы знаем, что христианство могло казаться заговором: язычники неожиданно обнаруживали христиан в своей среде. Тайные или явные христиане пронизывали все классы общества и внешне ничем не отличались от окружающих. Лионские мученики твердили суду: «Мы ничего дурного не делаем», тем самым ссылаясь на понимание общего блага, доброго и дурного, своих мучителей...
Итак, Данте, заселяющий свой ад врагами отчизны, был патриотом именно в античном смысле. Его гуманизм, о котором говорила позднейшая критика, заключается и в этой его заинтересованности в гражданской жизни, в его открытости мирским бурям, в гуще которых проходит граница между добром и злом и где цена ложного выбора — не исключено — вечные мучения за гробом... Эта гражданственная пылкость нам очень импонирует, но... но на самом деле, несмотря на грозные видения Дантова ада, Средневековье и Ренессанс все-таки не знали того драматизма политического выбора для христианина, как Модерн... Политика тогда не была связана с борьбой, скажем так, теизма и деизма, с борьбой разных социально-этических систем. Политика была вещью прикладной. Другой гуманист и тоже итальянец, Никколо Макиавелли советует государям в борьбе за власть вырезать всю родню соперников, и речь идет не о борьбе за идеалы, когда, допустим, цель оправдывает средства, а о «страсти к завоеваниям», которую автор считает естественной, главное — правильно оценивать свои возможности