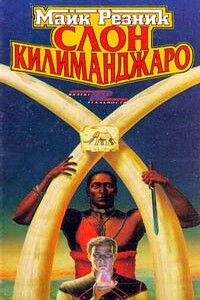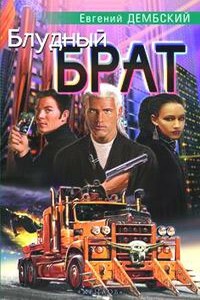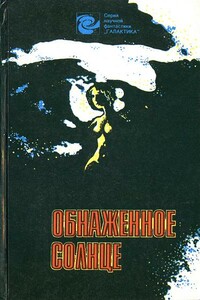Мой труп | страница 41
- Что вы здесь делаете? - Машина милиции подруливала к очередной скамейке, на который мы с Ариной очередной битый час обсуждали печальный итог нашей жизни.
- Ждем.
- Чего?
- Я жду почтальона.
- А я счастья в личной жизни…
- Ваши документы!
Привычным, ставшим механическим, жестом я вытаскивала из кармана свое журналистское удостоверение, Арина - водительские права, и вопрос снимался сам собой. С журналистами милиция предпочитала не связываться.
- А может, - Арина смотрела им вслед, - дело не в этом. Просто, беря документы, они видят наши глаза. По глазам сразу ясно, сколько нам лет.
В ставшее нашим розовым прошлым жаркое лето после первого курса мы редко задумывались над своими поступками - мы с Ариной были похожи на хаос, властвующий на земле до сотворения мира, и наши принципы были так же податливы, как прожаренный солнцем киевский асфальт, пружинящий под нашими ногами, как серый плавленый сырок. Теперь наши ноги отбрасывали длинные тени, и мы думали больше, чем делали. Мы стали героями «черной» ануевской комедии, то и дело прерывающими динамичное действие рассуждениями о смысле своего бытия.
«Мы - театральные критики, - повторяла Арина. - Пять лет нас учили анализировать чужие поступки на сцене. И жизнь ничем не отличается от театра».
Ночи позволяли смотреть на дневную реальность как на провинциальный спектакль. И Арина, кривясь, говорила, что, поднимаясь вверх, ты зарабатываешь больше, но должен соответствовать взятой тобой высоте: «Вот и выходит, денег как не было, так и нет. Чем больше их, тем больше тратишь. Ты обязан купить дорогой мобильный, дорогие духи, одежду, машину…»
Но ночами Арина снимала показательно-дорогие костюмы, залазила в купленные еще в институте штаны, старые шорты, раздолбанные сандалии и становилась собой. Она засовывала руки глубоко в карманы, отчаянно сутулилась, пинала носками случайные камушки и насмешничала над глупым спектаклем под названием «Моя социальная жизнь». Мы сидели на лавках, пили кофе в дешевых забегаловках, обсуждая ее карьерные победы и промахи с отстраненностью театроведов, анализирующих постановку на сцене. Уже тогда мы больше говорили о ней…
И все же в то лунное лето после двух разводов Арина все еще без размышлений подтвердила б любое мое алиби. Уже потому, что я - единственный человек на земле, который знает всю правду о ней, от которого не нужно скрывать правду!
90-е устремились к концу. На горизонте алел новый век. Новый мир сосредоточенно примерял старые тряпки добротной буржуазной морали, о которую так любил точить зубы Ануй. Но «мы - театральные критики» по-прежнему принимали друг друга любыми: жестокими, алчными, несчастными, злыми. «И ты, и я способны воспринимать людей такими, какими они есть исключительно потому, что сами черт знает что из себя представляем», - говорила Арина. Точнее не сказал бы и Игнатий Сирень.