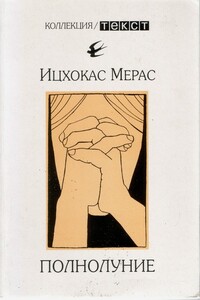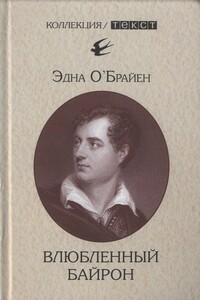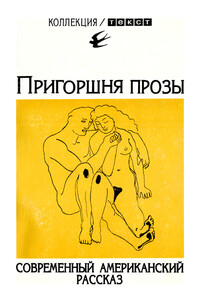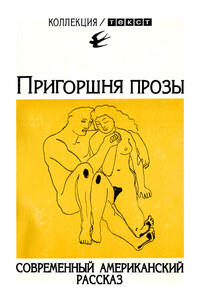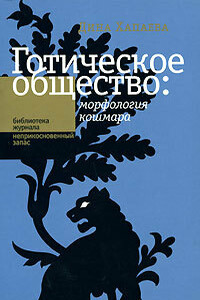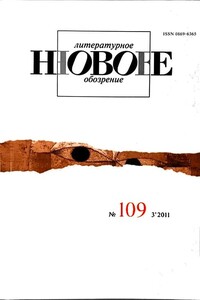Кошмар: литература и жизнь | страница 45
Теперь зададимся вопросом — зачем для книги о кошмаре (а «Чапаев и Пустота» — это ода кошмару, роман, в котором кошмар является единственным и главным смыслом повествования) Пелевину понадобились Чапаев и Петька? Встреча с Петькой — петербургским декадентом и Чапаевым — мистическим философом производит на читателя впечатление, похожее на то, которое испытал сам Петька при знакомстве с Чапаевым:
В моей голове была совершеннейшая путаница и хаос. (…) Я не мог понять, кто он — по манерам он меньше всего напоминал красного командира, но, тем не менее, явно был одним из них [123].
Ошеломленный, обезоруженный и дезориентированный читатель без сопротивления погружается в приготовленный для него кошмар. Именно такая реакция и требуется Пелевину. Ибо стремление понять природу кошмара сделало неизбежными для него, как и для Гоголя, опыты с читательским сознанием.
Трудно отделаться от впечатления, что Пелевин подхватывает проект Гоголя ровно там, где классик оборвал себя в «Записках сумасшедшего»: когда Гоголь понял, что между кошмаром, литературной реальностью и реальностью нет зазора, что они свободно перетекают друг в друга через текст. От этого постмодернистского проекта Гоголь отпрянул в ужасе и ушел в богоискательство. Напротив, его постсоветский последователь написал роман, в котором демонстративно снята сама возможность противопоставления реальности, литературной реальности и кошмара.
Правда, в отличие от скрытного Гоголя, Пелевин весьма откровенно говорит о своем замысле [124] — понять, с помощью литературного эксперимента, как текст воздействует на читателя:
(…) Роман по своей природе — это предсказуемая форма. Это последовательность состояний ума, похожая на обед в ресторане — starter, main course, dessert, coffee — поэтому роман наиболее востребован рынком. Даже непредсказуемость современного романа предсказуема, и читатель спокойно ждет ее с самого начала: он не знает, что именно будет на десерт, но он знает, что десерт будет. А я пытался написать роман со свободным фокусом, в котором постоянно меняется угол зрения и смещается точка, из которой ведется повествование. Где, если продолжить аналогию, зашедший пообедать вдруг становится официантом, а потом канарейкой. Я хотел написать роман, в котором героем является присутствие читателя, его внимание, вовлеченное в текст [125].
В своих экспериментах с кошмаром Пелевин широко использует изобретенные классиком приемы. Даже жанр, который постсоветский прозаик выбирает для своего романа о кошмаре, отсылает к наследию Гоголя. Ведь роман Пелевина — это тоже своего рода «записки сумасшедшего»: в предисловии Пелевин прямо называет его «психологическим дневником», который однажды, по ходу романа, обнаруживается на столе главврача сумасшедшего дома. Авторство и статус этих записок, законченных в Кафка-юрте, столь же загадочны, как и «Записок сумасшедшего», а идентичность главного героя и подлинность происходящих событий столь же сомнительны и туманны.