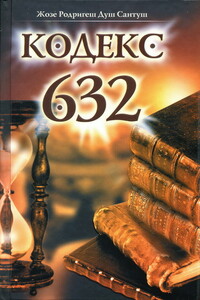Формула Бога | страница 195
— Вы учились в английской школе?
Бодхисаттва подтвердил кивком головы.
— В течение многих лет, мой друг.
— Вот откуда у вас такой прекрасный… э-э-э… британский английский язык. Там, в этой школе, вам все казалось, наверное, непривычным…
— Да, — подтвердил Тензин. — И дисциплина, построенная на иных принципах, и обычаи. Но главное отличие я обнаружил в методологии, понял, что к изучению проблем мы подходим с совершенно разных позиций, между которыми пролегает целая вселенная. Вы, западники, предпочитаете раскладывать все, любую проблему, на более мелкие составные части и анализировать каждую по отдельности, в изолированном виде. У этого метода есть свои преимущества, но наряду с ними и серьезный недостаток: он ведет к представлению о фрагментарном характере действительности. Это открытие я сделал в Дарджилинге, учась у западных преподавателей. У вас каждый предмет сам по себе: математика — это одно, химия — другое, физика — третье, английский язык — четвертое, физкультура — пятое, философия — шестое, ботаника — седьмое и так далее. Это проистекает из вашей привычки представлять все вещи порознь. — Он покачал головой. — Но это иллюзия. Природа вещей обусловлена шуньятой — великой пустотой и заключена в Дхармакайе — сущностном теле. Дхармакайя есть во всем материальном, что существует в мироздании, и в человеческом разуме отражается в виде бодхи — просветленного мудрого знания. «Аватамсака-сутра», основополагающий текст буддизма Махаяны, зиждется на представлении о том, что Дхармакайя находится во всем. Все предметы и события взаимосвязаны, сплетены между собой множеством незримых нитей. И даже более того: все предметы и все события суть проявление единого целого. — Последовала короткая пауза. — Все без исключения.
— Вы оказались тогда в совершенно другом мире.
— В абсолютно ином, — согласился бодхисаттва. — Из мира, который представляет все в единстве, попал в мир, который делит все на фрагменты. То, как мыслят на Западе, стало для меня откровением. И если раньше, находясь за пределами Тибета, я горевал, то теперь постигал новый для себя способ мышления. И особенно преуспел в двух дисциплинах — математике и физике. Я стал лучшим учеником английской школы, первым среди ее и британских, и индийских питомцев.
— Как долго вы оставались в Дарджилинге?
— До семнадцати лет. Я вернулся в Лхасу в 1947 году, том самом, когда британцы ушли из Индии. К тому времени я привык носить европейский костюм с галстуком, и мне стоило огромных трудов снова приспособиться к жизни в Тибете. То, что раньше казалось мне таким же уютным, как материнское чрево, теперь представлялось отсталым, ничтожным, провинциальным. Единственное, что как и прежде вызывало во мне восхищение, это мистика буддизма, ощущение интеллектуальной левитации, свободное парение духа в поисках истины. — Бодхисаттва устроился поудобнее на громадной подушке. — Через два года после моего возвращения на родину в Китае произошло событие, которое глубоко сказалось на наших жизнях. В Пекине к власти пришли коммунисты. Тибетское правительство изгнало из страны всех китайцев, но мои родители, будучи людьми хорошо осведомленными и знающими, понимали, что замышляет в отношении Тибета Мао Цзэдун, и потому решили снова отправить меня в Индию. Однако Индия уже не была прежней, а благодаря своим бывшим учителям из Дарджилинга, которые хорошо знали мои физико-математические способности, я получил рекомендацию для стажировки в Колумбийском университете в Нью-Йорке.