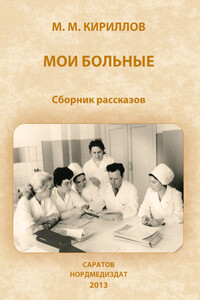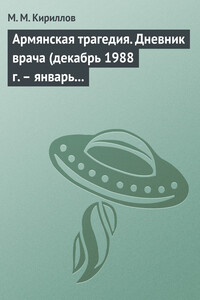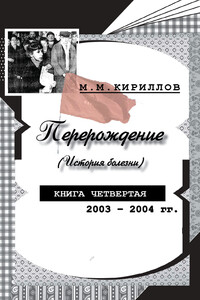Врач парашютно-десантного полка (г.Рязань, 1956–1962 годы) | страница 11
Одна термометрия чего стояла (градусники из НЗ приходилось доставать). Осмотр требовал много времени. Работали одновременно 7 врачей. В помещениях было душно, а на дворе стояли ноябрьские холода, и проветривать было непросто. Больные метались в жару, лица их были красными, потными, донимали тяжелые головные боли, боли в глазных яблоках, жажда. Поразительно, но врачи не заболевали. Больных нужно было кормить. С этой целью из столовой солдаты приносили ведрами щи, каши и чай. К раздаче и уходу привлекались те из больных, кто чувствовал себя легче. Тоже относилось и к раздаче таблеток. Инъекции делали санинструктора. Особенно тяжелыми были дежурства, и, окончив их, врачи оставались на месте до вечера следующего дня. Все валились с ног.
К 10–12 дню массовость поступления больных ослабела, и постепенно стали освобождаться койки в казармах, позже опустел клуб, но еще довольно долго оставался переполненным лазарет. К концу эпидемии стали чаще выявляться осложнения гриппа: пневмонии, бронхиты, синуситы, астенические состояния. Это требовало дополнительных исследований, привлечения консультантов и даже госпитального лечения. Летальных исходов не было.
Несмотря на массовость и тяжесть течения эпидемия длительного и существенного ущерба боевой части не нанесла. Сыграла роль не только хорошая организация работы медперсонала и всего командного состава полка, но и состояние здоровья людей до вспышки гриппа, хорошее питание личного состава, характерное для советской армии того времени.
Гриппозные эпидемии, также как изнурительные амбулаторные приемы, были школой профессиональной выносливости, когда учишься работать ровно, спокойно, в бригаде, скрывая усталость, держа в фокусе тяжелых больных. Я тогда усвоил: если больной в фокусе внимания, значит все в порядке.
Летом 1958 года я побывал в Махачкале. Там уже 2 года зенитчиком проходил службу мой средний брат Саша. Служил он хорошо, окреп и возмужал. Покупались в Каспийском море. Запомнился удивительно гостеприимный народ. Позже мне пришлось побывать в Закавказье. В Махачкале было беднее, чем в Баку, но колорит был тот же. Постоянное ощущение женской красоты. Запомнилось и такое: худенькая беременная женщина медленно везет повозку со скарбом, а сзади шествует усатый бугай в кепи, похожем на аэродром.
Посетил детский киносеанс. Мордуленции разные: и русские, и дагестанские – вперемежку. Отношения детей просто пронизаны интернационализмом. Фильм шел интереснейший – «Ох, уж эта Настя!»