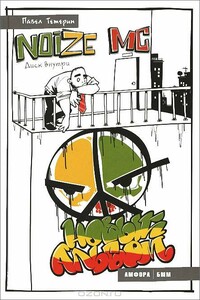Манефа | страница 26
Как шла служба, я не помню. Она же в основном на молдавском языке была. Только помню, что ужасно затекли ноги, и отламывалась поясница. Стоял и ругался про себя: стоило ли ради такого вообще тащиться сюда в законный выходной и при этом так рисковать судьбой? Хоть бы что-нибудь понимать. Или бы хор как-нибудь красиво звучал, а то разваливается по любому поводу. Но вот покошусь на подполковника, — а он стоит с закрытыми глазами, весь в струнку вытянулся, и аж светится. Какая-то улыбка блаженная. Нет, думаю, это я, наверное, действительно такой урод, родился без какого-то органа, вот и нечем "это" почувствовать. Люди вон вокруг ведь чему-то радуются, и искренне. А я как глухой на концерте или слепой на футболе. Совсем от таких мыслей засмурел, даже забылся где стою, как всё вдруг кончилось. Мой поводырь за рукав опять тянет: "Пройдём, пока они отпевать будут. Нас не заметят". Пройдём, так пройдём. Вышли во двор. "А когда, спрашиваю, опять приедем?" — "Что, понравилось? Слава Богу, а то обычно в первый раз всё как-то не так кажется. Это отец Константин для нас "Отче наш" на русском читал". Я молчу. Думаю: понравилось или не понравилось, об этом и речи нет. Главное, что я вообще не понял: что же тут в принципе должно нравиться или не нравиться? И именно этого своего непонимания теперь и не могу теперь оставить, — я должен "это" понять. Иначе окончательно самоуважение потеряю. "Так — когда?" — "В следующее воскресенье готовь свои удочки. И червей накопай потолще". Ну-ну, думаю, а ты оказывается действительно с юмором.
Поехали мы и в то воскресенье, и в следующее. Два года ездили, пока нас судьба не разбросала. Но я так и не понял, — от чего он на службе блаженствует? У меня в лучшем случае от привычки только ноги болеть перестали. И ещё — отец Константин в первые полгода, когда мне особенно тяжко всё было, так со мной ни разу ни о чём и не беседовал. Сухо поздоровается, благословит и уйдёт. Не доверял, долго не доверял. Даже когда крестил, и потом впервые исповедовал перед причастием, то только выслушивал. И всё. Но главное было не в этом. После первого же посещения храма, мне стало сниться. Это….
Мы почти спустились к реке. Георгий оборвал речь, оглянулся назад. Потом чуток помолчал склонив голову набок, словно к чему-то прислушивался через плещущий гул перетираемого валунами потока. И продолжал уже без улыбки:
— Им же тогда до гребня только метров пятьдесят оставалось. Их трое, а я один. Я был на противоположном склоне, немного ниже их уровня. Пока бы спустился, пока поднялся, — и следа бы не осталось. Но это я потом осмыслял. А тут, скорее всего, какой-то азарт сработал. Они, мол, надеются уйти, а я по инструкции прав, и мне очень удобно целиться. Помню, всё помню: как планку на прицеле на 100 метров поставил. Как ногу выставил, плечо поднял. Всё как учили. Первого и второго практически сразу насмерть — в позвоночник. А третий, — он уже почти на самом верху уже был, на самом верху…. И зачем-то оглянулся…. Я вдруг как в каком-то кинообъективе увидел приближение. У него было бледное в конопушках лицо, и оскаленные зубы. Это лицо мне показалось совсем рядом, совсем. Молодой, наверное, мой ровесник. А выстрел сам произошёл…. Мне же тогда восемнадцать лет было, я первый год служил.