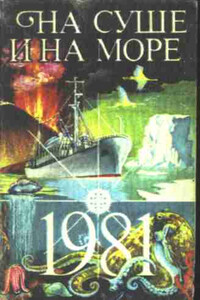Улыбка льва | страница 31
— Сволочи, спустите мне штаны!
— Заткнись!
— Я подам в суд за насилие!
— Дело кончится тем, что я тебя брошу!
Вдвоем с коридорным они тащат Тертия по холлу.
Возле номера Тертий падает перед дверью на колени и кричит:
— Он украл у меня бумажник!
От него теперь воняет уже не только одним эликсиром.
Коридорный нерешительно смотрит на Леонта.
— Сунь его под холодную воду, — советует Леонт.
Лугу нет конца. Вправо и влево — убегает вниз;
овраг, невидимая, угадываемая река.
"Кто же меня ждет, — вспоминает Леонт. — Ах да, Анастасия… Матовые плечи и коралловые губки".
Уже было.
Яркость нескошенной травы воображения. Даже муравьи под ней, как настоящие, только смотрятся в ореоле тумана, похожего на тающий снег. Стоит перевести вправо или влево — и ты чувствуешь — подзорная труба.
На сохнущем сене…
Вечная тема…
Крестьянка. С большими сильными ногами. Но лишь видимая как модель, образ зримого, общепринятого — объем вытесненного пространства, о котором удобно и привычно думать, запечатленного и здесь и там, размазанного в воздухе одним широким мазком — глаза, губы, лицо — лишь стоит приноровиться к движению или дыханию, найти ритм, опереться или опериться, вальсировать легко, грациозно, словно туман, уносимый ветром, или — легкий снег под солнцем.
— Сало и хлеб… — говорит она, держа узелок в руках, не смея предложить.
Было, было, вспоминает он, — у Гессе, — Гольдмунд.
Она мягко улыбается — слишком земная — только любить, с кожей, пахнущей женщиной. Но разве этого мало? Не о чем говорить? Из сотен нитей сотканное изображение. Выявленное глазом, превращенное в живую плоть, видимую ткань — просто усилием воли, которой хватает на все что угодно: и на крупные веки, и на усталые, робкие глаза.
— Как же..? — спрашивает Леонт. — А где?..
Что он хочет узнать? Если бы он сам знал. Жалость — человеческая выдумка. Язык присыхает к горлу даже от одной мысли…
Какая разница — Анастасия или эта женщина? Любовь, как и все остальное, не для одиночек. Хаос приносит смерть воображению. Ведь и само оно закуклено в сотни иных одежд и поддается разным усилиям. Слишком много в каждом личного позерства, затекающего в щели вечного, непоколебимого, как универсалиум, как клей фундамента.
Она пожимает плечами. Зрелость и опыт — в ней большего не надо — стократно выверенное действо тела, сродни шуму листвы или гнущейся траве.
— Я бы полюбил тебя… — говорит Леонт.
Почему он так говорит?
— Сало и… хлеб, — протягивает, не веря.
— Я бы полюбил… — настаивает Леонт из упорства.