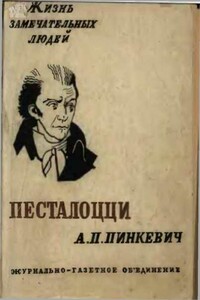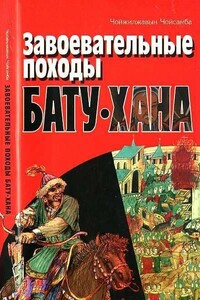Шрамы войны. Одиссея пленного солдата вермахта, 1945 | страница 9
В такой атмосфере люди, сильные духом, не могли не восстать против разгула низменных страстей и инстинктов. Это самые волнующие и трогательные воспоминания моей жизни. Я и сейчас вижу, словно наяву, как посреди бед и горестей возник кружок людей, воля и поступки которых преградили путь сорвавшимся с цепи низости и подлости. Неожиданно оказалось, что среди нас есть люди, которые хотели остаться людьми и сохранить верность родине — пусть даже обесчещенной и опозоренной. В разных частях лагеря стали возникать небольшие культурные группы, часто очень малочисленные. Эти группы, эти маленькие ячейки, изо всех сил противостояли всеобщему оскудению. Создавались кружки по интересам, в которых обсуждались исторические, естественно-научные и прочие проблемы. В этих группах организовывали встречи, на которых люди старались поддержать свой дух или поговорить о по-настоящему серьезных вещах. Именно в то время я познакомился с друзьями и товарищами, которых не забуду до конца своих дней. Вот лишь некоторые имена, которые никогда не изгладятся из моей памяти: Людвиг, актер из Вены, Герд — истинный почитатель муз, всегда находившийся в хорошем настроении Феликс и весельчак Ганс.
Нам приходилось жить и общаться среди тупой, равнодушной массы. Вскоре мы стали неразлучны и встречались каждый день. Мы говорили о множестве разных вещей, духовно и интеллектуально обогащая друг друга. Да, мы смеялись и радовались, стараясь духом отвлечься от суровой и грозной действительности. В скором времени мы начали разыгрывать театральные спектакли, декламировать баллады, всплывшие в памяти, или делать доклады об искусстве и наших немецких поэтах. Свои выступления мы проводили на открытой сцене, которую сколотили из сосновых досок на свободном от человеческих испражнений участке лагерного луга. Скоро мы стали лагерными знаменитостями, и вечерами, всякий раз, когда мы объявляли о предстоящем представлении, к самодельной сцене стекались большие группы пленных. Но самым лучшим было наше общение, и, честно говоря, если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель посмотрел на нас в этот момент, то едва он смог бы догадаться, что эти стриженные наголо, небритые люди с обветренными лицами, больше похожие на уголовников, говорят о прекрасных и возвышенных вещах. Внешность наша была ужасна — грязь, пыль, вши. Постоянный голод начал сильно отражаться на внешности. Но дух наш парил выше, чем в первые дни плена. Я не могу сейчас описать нашу тогдашнюю жизнь во всех подробностях, скажу только, что именно тогда в моей душе открылся источник, который не иссяк до сих пор. Что еще могу я рассказать о лагере в Пацове? Надо ли рассказывать о жертвах и ужасах, воспоминания о которых до сих пор терзают мою душу? Надо ли писать о том, как много было среди нас больных, не получавших никакой помощи? О том, как они, скорчившись от страданий, валялись в грязных землянках? Надо ли писать о тифе, унесшем множество жизней? Вспоминать ли о том, как расстреливали пленных, осмелившихся приблизиться к колючей проволоке? Стоит ли говорить о страшном голоде? Нет! Я хочу похоронить эти картины в глубинах памяти, ибо на фоне всех этих страданий тем ярче сияло солнце нашей дружбы, нашего товарищества, помогавшего преодолевать все невзгоды.