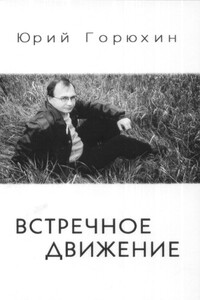Пианист | страница 6
– Кто бы говорил. Можно подумать, ты немой. Тебе стоит только начать говорить – даже Шуберт слова не вставит. А теперь, дорогой, отдохни, пока твоя Луиса будет краситься, разрисовывать себя, чтобы стать красивой.
– Смотри не перестарайся, не раскрасься, как блудница вавилонская.
– Откуда я знаю, как она выглядит, никогда не видела вавилонской блудницы. Да и никто не видел.
– Не видел, но могу себе представить.
– Ну ладно, отдыхай и смотри, негодник, не вздумай лезть в ванную, пока я там прихорашиваюсь, а не то плохо тебе будет.
Он идет в комнату за магнитофоном, оставленным на тумбочке у постели. Ставит его подле тарелки с омлетом, нажимает кнопку, выбрасывающую кассету, смотрит, на какой стороне записано «Адажио» Альбинони: Пахельбель – «Канон, ре мажор», «Жига, ре мажор», Альбинони – «Адажио, соль минор» для струнного оркестра с органом. Нажимает кнопку перемотки, отбрасывая Пахельбеля назад с убийственной скоростью, и вот рождается «Адажио» Альбинони, величественно-печальное, точно приговоренный к смертной казни гордый паж.
– Опять? – кричит-спрашивает Луиса из ванной.
– Тебе неприятно?
– Мне все равно, можешь слушать хоть миллион раз.
Она появляется улыбающаяся.
– Ну как, красива?
– Для кого?
– Для себя.
– Очень красива.
Она так подчеркнула глаза, так поправила прическу, так оттенила скулы, что стала похожа на рекламу себя самой.
– Лицо у тебя – как с обложки журнала.
– А тело у меня как с разворота «Плейбоя». Хочешь проверить?
– До двадцать третьего мая нам ничего не светит. Штук пятнадцать омлетов еще съедим.
– Займемся этим в ночь после выборов. Помнишь, в день всеобщих выборов получилось здорово.
– Нет, гораздо лучше было в ночь после принятия Конституции.
– Тогда вышло возвышеннее.
Луиса уходит по коридору, и Альбинони кончается незавершенным аккордом, словно оставляя возможность начать все сначала. На стол тяжело опускаются звуки, покружив прежде над распластанным на тарелке бифштексом и кусочками жира, над золотисто-красным холмиком недоеденного омлета, над магнитофоном, бутылкой воды, коробочкой из-под лекарства, над столовыми приборами, свирепо торчащими во все стороны или тихо умирающими на грязных тарелках, над четырехугольным столом, где царит полный разгром, все брошено и оставлено, все кое-как сдвинуто локтем, чтобы освободить пространство, раскрыть книгу и созерцать предисловие с почтительного расстояния, откинув свой скелет на деревянную спинку стула и изобразив во взгляде желание читать.